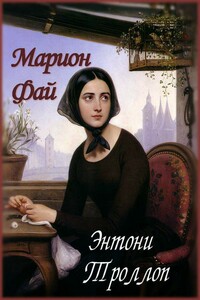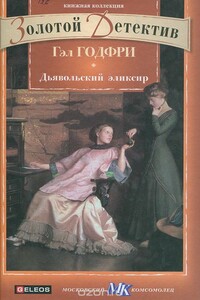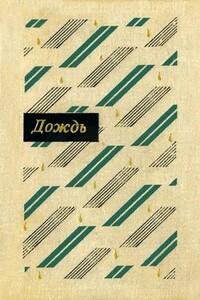Финиас Финн, Ирландский член парламента | страница 37
Финіасъ ушелъ съ Лоренсомъ Фицджибономъ. Онъ предпочелъ бы идти одинъ, но не могъ освободиться отъ своего дружелюбнаго соотечественника. Ему хотѣлось обдумать все, что происходило въ этотъ вечеръ; онъ и обдумывалъ, несмотря на разговоръ своего друга. Когда лэди Лора видѣлась съ нимъ въ первый разъ послѣ возвращенія его въ Лондонъ, она сказала ему, какъ отецъ ея желаетъ поздравить его съ вступленіемъ въ Парламентъ; но графъ ни слова не сказалъ ему объ этомъ. Графъ былъ вѣжливъ съ Финіасомъ, какъ обыкновенно бываютъ вѣжливы хозяева, но особенно онъ не былъ ласковъ къ нему. А Кеннеди? Онъ, Финіасъ, не поѣдетъ въ Лофлинтеръ, хотя бы даже успѣхъ либеральной партіи зависѣлъ отъ того. Онъ увѣрялъ себя, что нѣкоторыя вещи человѣкъ не можетъ дѣлать. Но хотя онъ былъ не совсѣмъ доволенъ тѣмъ, что происходило въ ІІортсмэнскомъ сквэрѣ, онъ чувствовалъ, идя рука объ руку съ Фицджибономъ, что совѣты Ло должны разлетѣться на вѣтеръ. Онъ бросилъ жребій, согласившись быть депутатомъ отъ Лофшэна, и долженъ подвергнуться риску.
— Право, Финнъ, мой милый, вы кажется совсѣмъ меня не слушаете, сказалъ Лоренсъ Фицджибонъ.
— Я слушаю каждое ваше слово, сказалъ Финіасъ.
— А если я поѣду на родину опять въ эту сессію, вы поѣдете со мною?
— Поѣду, если могу.
— Вотъ это хорошо. Надѣюсь, что вамъ удастся. Какая же польза выгонять такихъ людей, если ничего не получишь за свои труды?
Глава VII. Мистеръ и мистриссъ Бёнсъ
Добени кончилъ свою рѣчь въ три часа утра. Не думаю, чтобъ было хоть сколько-нибудь правды въ томъ, что было говорено въ то время, будто онъ стоялъ часомъ дольше, нежели обыкновенно, для того, чтобъ пятеро или шестеро очень старыхъ виговъ устали до смерти и отправились спать. Но какъ бы ни былъ старъ и утомленъ вигъ, ему не позволили бы уѣхать изъ Уэстминстера въ эту ночь. Сэр-Эдуардъ Поуэлль былъ тамъ на своемъ креслѣ, какъ больной, въ двѣнадцать часовъ, съ докторомъ съ одной стороны и съ пріятелемъ съ другой, въ какихъ-то парламентскихъ предѣлахъ, и исполнилъ свою обязанность, какъ самый старый британецъ. Тотъ, кто слышалъ рѣчь Добени, никогда не забудетъ ее. Такой изученной горечи, можетъ быть, не было никогда, а между тѣмъ онъ не произнесъ ни слова, которое заставило бы обвинить его въ томъ, что онъ заходитъ за границы парламентскаго антагонизма. Это правда, что на личности нельзя было указать яснѣе, что обвиненія въ политической несправедливости, трусости и фальшивости не могли быть яснѣе, что никакими словами нельзя было приписать болѣе низкихъ причинъ или болѣе безсовѣстнаго поведенія. Но, несмотря на это, Добени во всемъ, что онъ говорилъ, не переступалъ за границы парламентскихъ обязанностей и выказалъ себя гладіаторомъ прекрасно пріученнымъ для той арены, на которую онъ вышелъ сражаться. Стрѣлы его были отравлены, копье наточено, выстрѣлъ метокъ — потому что такія вещи позволяются. Онъ не отравлялъ колодезей своихъ враговъ, не употреблялъ греческаго огня, потому что такія вещи не дозволяются. Онъ зналъ въ точности правила битвы. Мильдмэй сидѣлъ и слушалъ его, ни разу не приподнявъ шляпы съ головы, не сказавъ ни слова своему сосѣду. Обѣ стороны въ Парламентѣ говорили, что Мильдмэй страшно страдалъ, но такъ какъ Мильдмэй никому не жаловался и готовъ былъ протянуть Добени руку въ первый разъ, какъ они встрѣтились въ гостяхъ то я не знаю, могъ ли кто составить себѣ настоящее понятіе о чувствахъ Мильдмэя. Это былъ человѣкъ безстрастный, рѣдко говорившій о своихъ чувствахъ, и безъ сомнѣнія онъ сидѣлъ надвинувъ шляпу на глаза для того, чтобы никто не могъ судить о его чувствахъ по выраженію его лица.