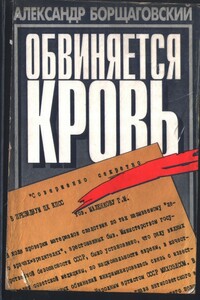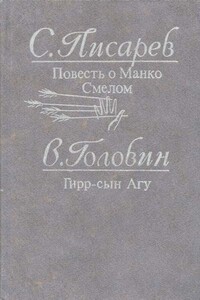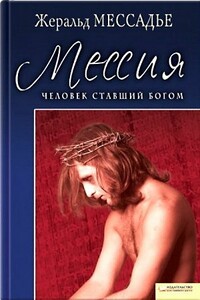Где поселится кузнец | страница 65
— Меня об этом еще в Кестль-Гарден предупредили: Клифтон Янг.
— Иногда и такой человек, как Янг, присоветует дело. — Они с Янгом не ладили. — Я бы и доллара не доверил нашим соседям; они могут всю землю перекопать в поисках денег.
— Я им спасибо скажу; лошади не берут, пусть хоть воры сломают землю.
— Не всюду же у вас деньги лежат.
— Под каждым квадратным футом земли — золотой!
Он не верил мне и все же обшаривал землю мучнистыми глазами, смотрел туповато, как человек медлительной, задержанной мысли. Как-то я сказал ему, что деньги уже в банке и мы спим спокойно, Роулэнд хмыкнул, — видно, он знал каждый мой шаг, имел приятелей, осведомленных во всем. Я стоял боком к нему и его лошади, врубаясь топором в ствол сосны.
— Пустяки, Турчин, вы не переступали порога банка.
— Поостерегитесь, Роулэнд, как бы вас не пришибло.
— Не похоже. — Он не сдвинулся и на дюйм. — Скорее вам придется отступить, вы с подветренной стороны.
И правда, я отскочил, дерево упало между нами, лошадь со страху вздыбилась.
— Изведете вы лес, Турчин, — Роулэнд с сожалением смотрел на дрожащие от падения ветви.
— Мне дерево необходимо, много строить придется. Не покупать же лес на стороне, когда своего много.
Очень я огорчил Роулэнда; он соскочил на землю, что-то ухнуло в его выпяченной, астматической груди.
— Хочу вам дать совет, Турчин: воля ваша, послушаться или пренебречь. Не знаю, какой вы держитесь веры, но должна же быть у вас своя вера. — Я кивнул: во что-то веровал и я. — Здесь не приживется семья, которой никто не видит в церкви.
— Я — православный по рождению. Не в костел же мне.
— Разумеется, — согласился он после раздумья. — Вы джентльмен и не поступите против чести.
— Честь превыше всего: я ведь еще и полковник.
Он отпрянул — не шучу ли я? В России даже и генеральское звание не было так редко и громко, как здесь степень полковника.
— Гвардейский полковник, — подтвердил я. — Ветеран и при ученой медали за Академию Генерального штаба. Хотите, покажу?
Серебряная медаль с нами, в кожаном походном сундучке, я не имел причины расстаться и с ней, как расстался с мундиром, бросив его в Атлантик в один из бурных дней.
— Мистер Турчин, — сказал Роулэнд почтительно, — в Нью-Йорке есть и православная церковь. Наденьте лучшее ваше платье, и соседи убедятся, что вы отправились в божий дом.
— И распотрошат ферму, отыскивая клад?
— Я присмотрю за фермой.
Морозы и снег отрезали нас от земли. Тепло в доме держалось, пока в чугунной печи горели дрова. Надя исхудала, лицо ее обветрилось, сухие губы сравнялись цветом с лицом, в ней появилось выражение неутоленной жажды, нетерпения, какая-то цыганская, гибкая отчаянность при серых глазах и светлом волосе. Я любовался ею и на зимнем солнце, и при скупом фитиле, и в прыгающих бликах у распахнутой печной дверцы, любовался жадно и виновато, будто взял не свое, украл у далекой земли лучший его камень и увез за океан, в глушь, в захолустье Лонг-Айленда. Работая, Надя забывала и меня; уходила в свои страницы, как камень в полынью, как путник уходит в ночь, уходила вся, без надежды на возвращение. Склоняясь над бумагой, я обрабатывал мысль, я был ее погонщиком, ее гранильщиком, я ее формовал и обжигал, а Надя сама отдавалась потоку лавы, где мысль и страсть, соединившись, достигали невозможного жара.