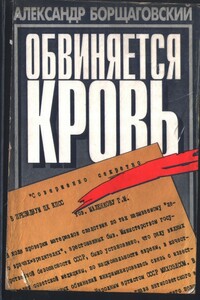Где поселится кузнец | страница 19
Старик склонился у кровати, переложил скрипку, нашарил что-то под тюфяком.
— Возьмите! — Турчин вытащил из-под тюфяка домашнюю, сшитую тетрадь, — рука сама знала место, пальцы выбирали нужное, — и протянул ее гостю, опасаясь и внезапного своего поступка, и возможного оскорбительного отказа. Он прижал палец к губам, косился на дверь, делал знак помолчать, не послышатся ли опять под дверью шаги? — Хорошо бы вам оригинал, но сами видели — обгорел, верхние строки я по памяти переводил: столько раз читано! Не может ее имя затеряться навеки; история жестока, но не до такой же степени. Должна быть и логика, иначе — зачем? Зачем вылеплен человек из горсти земли, из праха, и так возвеличен умом?! — Как быстро менялся он, как легко впадал в исступление, в гневливое и гордое отчаяние.
— Простите, Иван Васильевич… — Владимиров держал руку на отлете, будто еще не принял тетрадь, а взял, чтоб не упала, — О ком вы?
Старик взъерошенно, враждебно уставился на гостя и уже рукой повел, чтобы отнять тетрадь. Это длилось долю секунды, широкое, беззащитное в своей открытости лицо сразу смягчилось виноватой улыбкой.
— Прочтите, голубчик, и все определится: и мера, и честь, и смысл. Вы не смотрите, что рука дрожит, почерк у меня хороший. Нет! Нет! — опередил он Владимирова. — И титула не смотрите, все потом, в уединении, так, чтоб начать и до самого конца, не дыша, слезы не смахнув!
Не забирая тетради из рук Владимирова, он сложил ее вдоль, узким прямоугольником, и сжал, стиснул, безмолвно уговариваясь, чтобы так он ее держал. Провел ладонью по лбу, будто окончил трудную работу и счастлив ею. Пустыня заброшенности, жажда дружбы стояли за этой радостью. Если в юности его лицо не знало маски сокрытия, не выработало нервного и мускульного аппарата притворства, то какой мучительной должна была быть вся его жизнь! С такой обнаженностью можно жить тирану на троне или приговоренному в десятке саженей от плахи.
Серое пространство за окном штриховал дождь, натиск ветра стал громче и жестче, приплывший издалека голос церковного колокола приносил не покой, а тревогу. Старик приметил темную, под зонтиком фигуру шагах в тридцати от ворот, заметался по комнате, захлопотал, теряясь среди привычных предметов, переложил на прежнее место скрипичный футляр, подал вдруг Владимирову пальто и выпроводил, вытолкал его за дверь, возбужденно и громко говоря, извиняясь, уверяя гостя, что ему надо, необходимо надо уходить, и побыстрее, и так, чтобы его не заметили