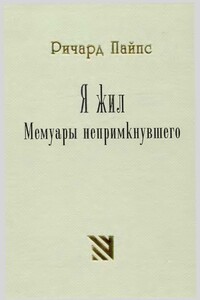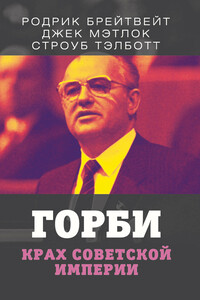За Москвой рекой. Перевернувшийся мир | страница 30
Именно на периоды их правления приходится бурный расцвет русской музыки, литературы, живописи и балета. Европейская культура навсегда преобразилась: сейчас ее невозможно себе представить без великих русских романистов, прежде всего Толстого и Достоевского, без величайшего русского драматурга Чехова, без Чайковского, Мусоргского, Стравинского, Прокофьева и Шостаковича, без великих художников первых десятилетий XX века. Споры о том, является ли Россия европейской или азиатской страной, без сомнения, будут продолжаться. Русские сами не могут этого решить. Но Россия — часть христианского мира, неотъемлемая часть европейской истории, и великих русских романистов читают все образованные англичане, большинство из которых никогда не прочли ни одной страницы Гёте, Данте или Расина и не имеют представления о том, существует ли такая вещь, как великий индийский, японский или китайский роман. Россия представляет для всех нас проблему не потому, что она недостаточно европейская страна, а потому что она недостаточно мала. Большая часть ее территории (где проживает меньшинство населения) обращена к Тихому океану и Азии. Это отражается во взглядах и в политике, но никак не сказывается на европейском по своей сути характере русской цивилизации.
Для самих русских не только их культуру, но и само их представление о себе определяет Пушкин. Пушкин — больше чем поэт. Он воплощение мудрости, источник утешения в годины бедствий. Русские брали его книги с собой в концентрационные лагеря. А когда Советский Союз зашатался накануне крушения, поэта сделали своим знаменем ультранационалисты. Один критик сказал по телевизору в 1990 году: «Пушкин — один из последних святых, оставшихся у нашего народа в это духовно трагическое время»[16].
Примерно в 120 километрах к югу от Пскова, древнего красивого города у западных границ России, остался нетронутый кусок русской сельской местности XIX века — река Сороть, широкие пастбища, леса, ветряная мельница, три барских дома в старинном стиле. Нигде ни единой заводской трубы или электрического столба. Это Михайловское, где Пушкин жил в ссылке и где он написал многие из лучших своих творений. Впрочем, то, что можно увидеть сегодня, — это иллюзия. Михайловское неоднократно сжигалось разъяренными крестьянами, враждующими бандами, за него воевали во время Второй мировой войны. Оно сохранилось и выглядит так, как я сказал, благодаря тому, что было возрождено неутомимым Семеном Гейченко, сыном старшины императорской конной гвардии. До войны Гейченко был хранителем музея и ученым. Во время «чисток» его арестовали; когда началась война, отправили на фронт в штрафной батальон; на войне он потерял руку. Он жил неподалеку от усадьбы Пушкина, в деревянном доме, заполненном самоварами, церковными колоколами и бесчисленными портретами, изображавшими его самого. Гейченко пришлось бороться с вандалами, которые хотели исковеркать местность, возведя здесь современные промышленные предприятия. И он победил. Ландшафт был делом его рук, так же как и строения — точные копии деревенских домов и усадеб конца XVIII века, как бы вновь родившиеся из пепла войны: Михайловское — имение матери Пушкина, Петровское, где жил дед поэта, эфиоп по происхождению, Ганнибал, и Тригорское — здание полотняной фабрики (имение сгорело), где когда-то обосновалось семейство Осиповых-Вульф, послужившее прототипом героев пушкинского «Евгения Онегина»: Татьяны и ее семьи.