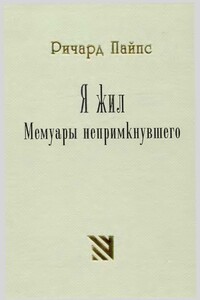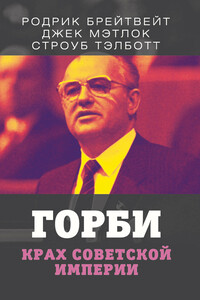За Москвой рекой. Перевернувшийся мир | страница 14
Заботясь о расширении семейного дела (завод по производству сахарного песка в Сумах стал крупнейшим в стране), Павел в то же время обладал острым чувством гражданского долга. Он был старостой своей местной церкви Св. Софии, расположенной на берегу Москвы-реки, неподалеку от его нового особняка, и оплатил ее реставрацию. Он выплачивал стипендию 20 студентам Московской консерватории, членом попечительского совета которой являлся. Для рабочих всех своих заводов он построил школы и больницы. Накануне войны пожертвовал крупную сумму на расширение русского воздушного флота, который на том этапе был, вероятно, самым передовым в мире. С его фотографии на нас смотрит типичный представитель процветающего европейского среднего класса конца века: бородатый, самодовольный человек, неотличимый от равных ему по положению англичан времен короля Эдуарда VII. Однако его портрет, написанный Валентином Серовым (1865–1911), одним из величайших художников России, раскрывает другую сторону его натуры: довольно слабое лицо, лицо одного из незадачливых персонажей-интеллектуалов Чехова. Те, кто знал его в расцвете сил, говорят о нем как о человеке эмоциональном. Он бродил по художественным выставкам, покупал картины и покровительствовал художникам, устраивал роскошные и дорогостоящие приемы, якшался с аристократами, был страстным охотником, пожалуй, немножко снобом и повесой. Харитоненко не был одним из видных коллекционеров-новаторов, таких как Сергей Щукин, который одним из первых оценил и приобрел ранние работы Пикассо и Матисса. Он не оказал помощи становлению русского авангарда, как его собрат-москвич Савва Морозов. Но у него была крупнейшая коллекция картин известного живописца Нестерова (1862–1942), который писал иконы в маленькой церкви, построенной Павлом в Наталевке по проекту архитектора Щусева. На галерее в его доме, которая теперь называется столовой Второй империи, висел тогда портрет надменной «Неизвестной» Ивана Крамского (1837–1887), картина, известная большинству русских, да и многим в Англии, поскольку она была помещена на обложке «Анны Карениной», вышедшей в издательстве «Пингвин».
Подозреваю, что Вера, сдержанная женщина с изможденным лицом, была главным «мотором» светской жизни семьи. Говорят, что в «Белом с золотом» зале пел Шаляпин, а Прокофьев играл на рояле. Нестеров описывает рождественский вечер в этом доме в 1912 году. На нем присутствовало более 300 гостей, среди которых были аристократы и купцы. Двум маленьким детям Нестерова подарили прямо с елки подарки стоимостью сто рублей каждый. За этим следовал «спектакль», который давал какой-то видный актер из МХАТа и в котором участвовали представители московской золотой молодежи во главе с сыном Павла, Иваном, которого Вера мрачно называла «нашим единственным». Хотя веселье продолжалось допоздна, Нестеров и его жена не смогли отговориться от обеда, который за этим последовал. Столы были уставлены элегантными сервизами и цветами. Им удалось уйти только в четыре часа утра, причем хозяин дома отправил их домой в новомодном автомобиле.