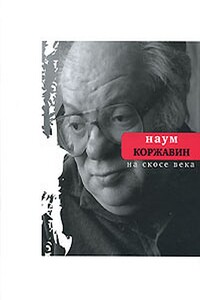Запомни и живи | страница 7
Почти так же демонстративно открывал первую свою книгу и Гумилев:
но то был образ сильного, не без влияния Ницше, героя, а над героем Эренбурга — смеются, да он и сам понимает, что его доспехи — картонные:
Электрические огни — это ведь не пять столетий назад, это современность; так что здесь всего лишь театр, сон, может быть, мечта — не более. Время от времени действие книги из Средневековья ненатужно перемещается в новые времена, и тогда возникает Вандея и — в пику недавним товарищам — «озверевшие Мараты» и «слепые Робеспьеры»; почти религиозная аскетичность сюжетов вдруг разбавляется эротикой, не нарушая, впрочем, общей изысканности тона. Недаром именно «севрские чашки, гобелены, камины, арлекины, рыцари и мадонны» из первой книги Эренбурга запомнились Кузмину[17], а вся книга в целом попала в поэзы ненавистного Эренбургу Северянина:
О разнообразии влияний, сказавшихся на первой книге Эренбурга, говорили и писали много. Список оказался длинный: помимо Блока, Брюсова, Кузмина отмечен был еще и бельгийский символист Жан Роденбах (и сам Эренбург подтверждал это в письме к Брюсову[19]); Эренбургу предлагали даже назвать свой сборник «Под влиянием Роденбаха»[20].
Завершающие книгу Эренбурга стихи обращены к Богородице, которую автор на католический лад зовет Мадонной; в религиозном плане это, может быть, самые чистые стихи.
Более всего обрадовала Эренбурга рецензия Брюсова:
«Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил „Вечерний альбом“ Марины Цветаевой и мой сборник: „Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург“. Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться»[21].
Последнее случилось быстро, это подтверждают два документа 1910 года. 11 ноября кузен Эренбурга Илья Лазаревич, художник и меньшевик, не изменивший русской социал-демократии и читавший тогда для партийной кассы лекции об импрессионизме рабочим-эмигрантам, сообщал из Парижа сестре:
«Вчера Илья читал свой реферат: Последний трилистник (Гумилев, Кузмин и Черубина де Габриак). Народу было очень мало. Человек двадцать, и то все свои… Но можно только пожалеть тех, кто не пришел. Илья прочел нам даже не реферат, а художественное произведение, красивое, яркое, не уступающее его лучшим стихотворениям. Когда слышишь такие красивые вещи — прощаешь ему его „сжигание кораблей“ и преувеличения: ему это нужно было для того, чтобы развернуться, — пусть. Не жалко».