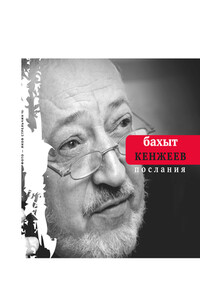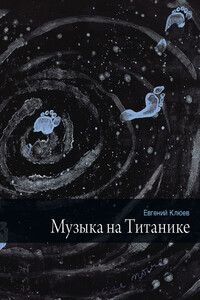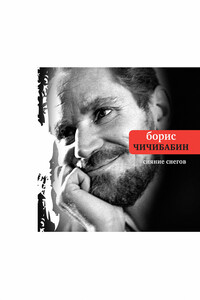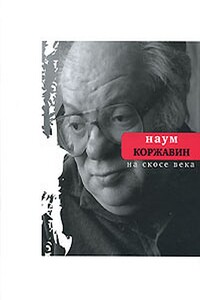Запомни и живи | страница 14
Семантически многое в «Стихах о канунах» — неясно; музыка изгнана из них, рифмы едва прослушиваются, ритмы нестабильны, но такая поэтика осознанна, — Эренбург писал о ней Брюсову:
«То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим — я чувствую как свое, подлинное, а значит, ни красивое, ни безобразное, а просто должное. Пишу я без рифмы и „размеров“ не по „пониманию поэзии“, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух. „Музыка стиха“ — для меня непонятное выражение — всякое живое стихотворение по-своему музыкально. В разговорной речи, в причитаниях кликуш, в проповеди юродивого, наконец, просто в каждом слове — „музыка“ <…> Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее „монументальное“, мне всегда хочется вскрыть вещь. <…> Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм».
И затем важное признание:
«Вы говорите мне о „сладких звуках и молитвах“. Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, или, вернее, все они молитвы богам, но не все — Богу. А вне молитвы Богу — я не понимаю поэзии»[40].
Это прямое обращение к Богу выражено в обнаженном, без какой-либо заботы о собственном имидже (если пользоваться современным словом), цикле «Прости меня» — блудливого, богохульника, поэта, нерадивого, злобного… Здесь и о грехах, и о смиренном покаянии говорится с предельной, исступленной искренностью.
Пророчества Эренбурга наиболее монументально звучали в стихотворении «Пугачья кровь», которое цензура запретила печатать. На фоне, созданном повторением строк:
рисующих Москву во время казни Емельяна Пугачева, звучат причитания:
Уж это, точно, не для аристократических ушей, недаром возмущенный Иван Бунин покинул помещение во время чтения этих стихов автором…
В 1936 году в пору максимальной веры в справедливость советской идеологии, Эренбург жестко и строго вспомнит себя в 1915-м: