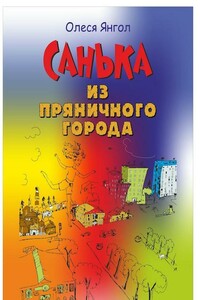Славка с улицы Герцена | страница 36
Федотыч уже дважды заходил в кабинет — будто бы приглядеть за печкой. И наконец он не выдерживает:
— А что, батюшка, никак весточка от Константина Андреича?
— От него, от него! — радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гаврилыча, прогоняет сонливость. — Пишет, что все у него хорошо, высочайшим повелением он и два других гардемарина произведены в мичманы, был получен указ в Петропавловске… И тебе кланяется, Федотыч.
— Значит, помнит старика…
— Как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал!.. Федотыч, вот что! Негоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание! Иди к Авдотье и скажи, чтобы достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала! Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей…
Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулею летит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырчатым янтарем.
— Федотыч, бери бокал!
— Батюшка, негоже мне господское-то вино пить, не по чину…
— Ладно тебе, «не по чину»! Первый раз, что ли? Забыл, как в четырнадцатом году, в Париже?
— Как забыть! Да тогда ведь за государя…
— А теперь за Костиньку! За мичмана Константина Андреича Трубчинского!
Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами.
— Оно конечно. Дай ему Господь всяких радостей…
Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать: мы все такие же, как в молодости! Взмах слишком широк. Рукав шлафрока летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, а фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица блестит на паркетных плашках.
— Батюшка, вот беда-то!
— Что за беда! Если что-то бьется, это к счастью! — заявляет граф. И с размаха садится в кресло.
— Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлона Евстафьевича, царство ему небесное…
— Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку…
— Оно так, сыщу… Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохло.
— Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке…
…Написал я эту историю и теперь думаю: зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна, лежат раковины с южных островов, а над головой колышутся от сквозняка паруса корабельной модели?