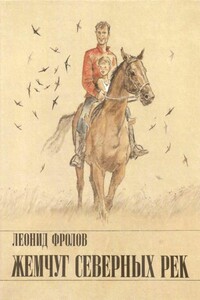Славка с улицы Герцена | страница 27
Белые листы выглядели так, словно на них рассыпали и раздавили клюкву. Все мои морские термины оказались жирно, с кровавыми брызгами перечеркнуты красными чернилами. Везде над словом «рей» было написано «перекладина». «Ванты» заменены были «веревкой». А слова «пошел все наверх» Прасковья Ивановна зачеркнула без всякого исправления.
Под изложением красовалась двойка ростом с мой мизинец. И с похожей на кляксу точкой.
Я сел на краешек деревянного тротуара, напротив крыльца белой церкви-библиотеки. Сунул тетрадку в кирзовую полевую сумку. Съежил плечи и замер в горьком изумлении.
Огорчала не сама двойка, фиг с ней. Но за что меня так?
Ведь перекладина на мачте в с а м о м д е л е называется «рей». И ванты на корабле есть. И марсовая площадка. Просто Лев Толстой этого не знал. Он был, конечно, замечательный писатель и храбрый офицер, отважно воевал в Севастополе. Но ведь не на море, а на берегу. Он был сухопутный человек и просто не знал, как что называется на парусном судне.
А я знал. И что плохого, если я уточнил и поправил Толстого? Ведь я же все правильно написал!
Я не плакал. Я даже не обиделся ни на Прасковью Ивановну, ни на судьбу. Я был просто подавлен вопиющей несправедливостью.
Даже сейчас мне, грузному пожилому дядьке, жаль того девятилетнего мальчишку. Вот он — лопоухий, белобрысый — понуро сидит на краю шаткого тротуара. В тесной суконной курточке с вельветовой вставкой на груди и заштопанными локтями, в застегнутых под коленками брючках, в пыльных брезентовых башмаках и в кепочке (кемеле!) с матерчатой кнопкой на макушке. На кемель этот тихо падают сухие березовые листья. Сентябрьский день — теплый и безветренный. Опять в воздухе висят пушистые семена белоцвета. К тому же завтра воскресенье. Но в душе — ни капельки радости. Подойти бы к мальчишке, хлопнуть по плечу: «Не горюй, все впереди…»
Никто не подошел. Только Семка Левитин, пробегая, окликнул:
— Че сидишь, айда домой! — И даже не остановился, не оглянулся.
Впрочем, сидел я недолго. Поразмышлял еще, пожал плечами и пошел домой.
Дома я без всякой боязни показал тетрадь маме и Артуру Сергеевичу. Отчим добродушно хмыкнул. Высказался в том смысле, что «от них, от не нюхавших моря женщин, чего еще ждать». Мама тоже меня не ругала. Сказала только, что писать изложение надо так, как читает учительница, а не городить отсебятину.
— Но ведь я же все правильно написал! Прасковья просто не понимает!
— Я вот покажу тебе «Прасковью»! У Семки научился?.. Надо же, учительница н е п о н и м а е т! Лев Толстой, по-твоему, тоже ничего не понимал?