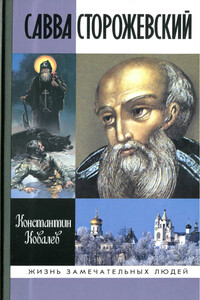Острее клинка | страница 38
У Сергея теперь было достаточно времени для того, чтобы подумать о том, как он мог поверить на слово Энрико Малатесте, отчаянному, смелому человеку, но авантюристу по натуре и стороннику анархических идей Михаила Бакунина.
Свобода пришла внезапно. Умер один итальянский король, вместо него на трон сел другой и по традиции, на радостях, объявил амнистию.
Энрико и Винченцо остались в Неаполе, Сергей поехал на север.
В поезде итальянцы, как дети, радовались победам русских над турками. Сергей не мог разделить их чувств. Для него была ясна подоплека царской любви к братьям-славянам: царь зарился на проливы из Черного в Средиземное море, оттого и полез в войну на Балканах.
Со страниц итальянских газет смотрели бравые физиономии генералов — Черняева, Скобелева, Гурко и лучезарный лик самого царя, и, разумеется, не было места для изможденных лиц сотен русских, которых под сурдинку судили в это время в Петербурге за мирную пропаганду среди крестьян и рабочих.
В Женеве ему показали стенограмму одного заседания «особого присутствия правительственного сената», в которой Сергей услышал живой голос России.
Подсудимый Ипполит Мышкин говорил на суде: «…девушка, желавшая читать революционные лекции крестьянам; юноша, давший революционную книжку какому-нибудь мальчику; несколько молодых людей, рассуждавших о причинах народных страданий, рассуждавших, что не худо было бы устроить даже, быть может, народное восстание, — все эти лица сидят на скамье подсудимых, как тяжкие преступники, а в то же время в народе было сильное движение, которое смирялось помощью штыков; а между тем эти лица, эти бунтовщики, которые были усмирены военною силою, вовсе не были привлечены на скамью подсудимых, как будто бы говорить о бунте, рассуждать о его возможности считается более преступным, нежели самый бунт. Это может показаться абсурдом, но абсурд этот понятен: представители силы народной могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное для правительства и более поучительное для народа. Поэтому-то зажимают рот и не дают сказать эти слова на суде…»
Сергей читал речь Мышкина с восхищением и болью. Каждым своим словом Мышкин отягчал себе будущий приговор, но каждое его слово разбивало ложь и выносило на свет правду о замордованной России.
Сергей хорошо представлял себе обстановку царского суда.
Темная зала, длинный стол, за которым в черном оперении стервятников сидела комиссия. Жандармы с саблями наголо. Жиденькая стайка так называемой публики, среди которой нет сочувствующих. А за барьером небольшая группа заключенных.