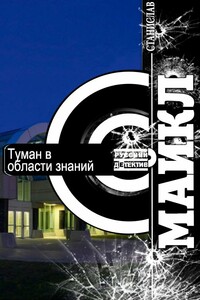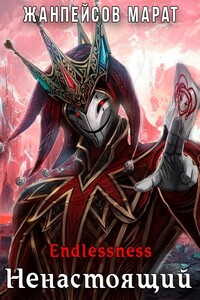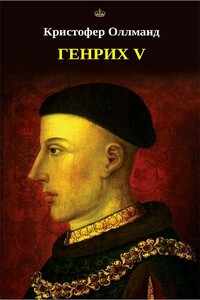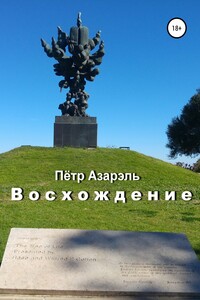Герой смутного времени | страница 58
Ряд указов связаны с селом - восстановление и подъем среднего Поволжья и черноземного центра, основных районов товарного хлеба, повсеместное введение трехполья, плугов и других производительных орудий сельского труда. Предоставляются земельные наделы, ссуды и другие средства служилым и другим вольным людям, желающим осесть на землю и заняться сельским производством. Такое же право дается черносошным (свободным) и казенным крестьянам при условии переселения в дальние осваиваемые районы (Сибирь, Алтай, юг страны, в бывшем Диком поле). Крепостным крестьянам я дал право собственного выкупа или перехода к другому землевладельцу, включая государство, выплатившему выкуп, сумма которого установлена в указе. Этим указом отменил соборное уложение Василия Шуйского, закрепощающее крестьян за собственником, как вредное для страны, вызывающее смуту среди закабаленных и препятствующее перемещению рабочих рук на осваиваемые земли.
Реформы внедрялись трудно, прежде всего непониманием самого народа, что они же ему дают, да и присущей всему населению приверженности старым порядкам - нашими отцами и дедами заведено, не нам их ломать. Пришлось самыми простыми, очевидными примерами и доводами убеждать простой люд в нужности перемен, заинтересовывать их льготами и послаблениями. Иногда приходилось принуждать особо тугодумных или нерешительных идти в общем деле, в чем ретивые служивые перебирали, вызывая недовольство людей. Также не просто было преодолеть неспешность ведения дел службами и управами, даже после чистки от самых негодных. Понадобилось устанавливать на всех уровнях управления конкретные сроки исполнения, наказывать нерадивых, пока не произошел сдвиг к лучшему. И все же, при всех трудностях, реформы позволили стране уже в следующем, 1612 году, выправить бедственное положение, уйти от края нищеты и разрухи.
Кроме того на казне благотворно сказалась секуляризация монастырей, которую я провел зимой с согласия патриарха и большей части иерархов церкви. К государству вернулись огромные земельные площади, монастырские крестьяне, денежные и другие средства, также уменьшилось количество самих монастырей, их перевели в крупные. Серьезного сопротивления монастырского братства мы не встретили, все же обет нестяжания, даваемый монахами, прямо предписывает им неимущее состояние. Но в монастырском руководстве, утратившем влияние в мирской среде, возникли крамольные мысли, объединившие их с другими недовольными нашими реформами, особенно среди остатков боярства и поместного дворянства, потерявшими какие-то льготы, а также бесконтрольную власть над своим крестьянством.