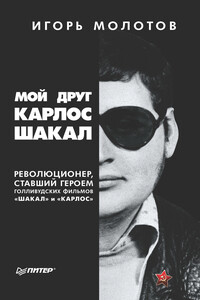После Путина | страница 50
В общем, всё просто: выбрав после распада СССР капиталистический путь развития, Россия безоговорочно нуждалась в глобализации. Капитализм должен модернизироваться; российский капитализм в девяностые был кривым-косым и сидел в такой глубокой яме, что даже кризисов у этого капитализма фактически не было, ведь кризис не может быть постоянным. Когда кризиса всё-таки дождались в 1998-м, необходимо было использовать возможность подстегнуть капитализм, модернизировать его. А в современном мире модернизация капитализма «в отдельно взятой стране» совершенно невозможна. Таким образом, никакого выбора у Путина в первые годы не было — если, конечно, не рассматривать вариант «а давайте-ка дадим России тихо развалиться на запчасти». Уверен, что даже на Западе такой вариант рассматривали далеко не все. Дело в том, что при современных межгосударственных связях и взаимозависимостях распад даже «вражеского» государства становится сомнительным сюрпризом для оппонентов. Это ясно показал распад СССР, который в первые годы весьма и весьма воодушевил те же Штаты, но уже во второй половине девяностых они были вынуждены отчаянно искать «врагозаменителя», попеременно назначая на эту «должность» то Югославию, то Ирак, то Афганистан и, конечно, мифический «мировой терроризм». Впрочем, кое-кто из невменяемых ястребов, каковых всегда можно обнаружить в высших политических эшелонах любого государства, безусловно, лелеял мечты об исчезновении России как государства (и лелеет по сей день). И в таком контексте у Путина, конечно, был «выбор». Но этот «выбор» коротко можно обозначить так: быть Путиным или не быть Путиным. Путин решил быть Путиным. Но ещё раз подчеркну: первые его внешнеполитические действия на посту президента — это действия глобалиста, лояльного мировой политической системе со всеми её расстановками, иерархиями и акцентами. Активизация российской внешней политики хоть и осуществлялась ради возвращения государственной субъектности, но при этом полностью укладывалась в существующую политическую картину мира — с американской гегемонией, западным цивилизационным диктатом и т. д. В 2000 году Путин отправляется с визитами в ключевые западные государства, а также в Японию (в Китай, кстати, впервые приехал лишь в 2004-м); встречается с лидерами «восьмёрки» на различных мероприятиях, заключает новые договорённости, расширяет связи — в общем, всеми силами демонстрирует нацеленность на лояльное партнёрство и соблюдение существующих правил. Вкупе со стереотипом «преемника Ельцина» такое поведение, само собой, располагает западных лидеров к Путину: они не видят в нём ни малейшей опасности, считают «своим мальчиком» и предвкушают ещё более активное поедание российских ресурсов за бесценок, чем при Ельцине. Путин их устраивает даже больше, чем Ельцин: всё-таки трудно объяснять собственным народам, по какой причине с откровенным клоуном ведутся какие-то дела вместо того, чтобы просто заменить его приличным «своим» ставленником. В этом плане они видели в Путине второго Горбачёва — пусть и более сдержанного, но падкого на западную приязнь, на возможность именоваться «партнёром» и готового ради вхождения в ту же «восьмёрку» принести Западу многия и многия жертвы.