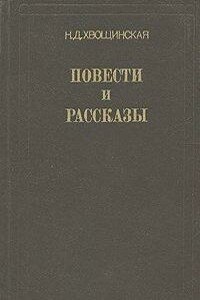После потопа | страница 2
— О господи, скоро ли? — проговорил старенький господин, в плотно застегнутом старом пальто, пожимаясь от дрожи и приподнимая фуражку, чтоб освежить голову. — Братец, который час?
— Третьего сорок… сорок две минуты, — отвечал другой господин, стоявший подле, тоже немолодой, похожий с братом, но щеголеватый, добрый и веселый, — третьего сорок две. Поздненько. У Лизаветы Николаевны пирог, пожалуй, простынет, а то, еще хуже, пересидит, если вынуть не догадались.
Он засмеялся.
— Как вы это можете, братец…
— Да что ж, батюшка, помилуй, что ж такое? Ведь если бы мы вот как эти…
Он кивнул на других.
— Если б нам приходилось ждать-гадать, что будет, беспокоиться, передумывать, дело другое… А мы себе, слава богу, заранее знаем…
— Потише…
— Я и то тихо! — возразил господин и опять засмеялся.
На него оглядывались.
— Ну вот, рассердились, что я не плачу, — продолжал он громко. — Что ж, когда у меня характер такой решительный. Два племянника у меня там, и рискую я, что вот, может быть, в эту самую минуту…
— О, бог с вами, — прервал старик.
— Что же? Все мы ждем, и, уж конечно, многие из нас того дождутся, чего не желают. Воля божия. Ты, конечно, отец, да что же делать. Прежде бы думал, удержал бы… А теперь хоть на сердце кошки, но что ж слезную комедию представлять…
— Однако, знаете что… довольно! — сказал, подходя, молодой человек.
— Всякий волен выражать свое мнение, милостивый государь, — возразил плотный господин. — Вам, может быть, мое не нравится. Ну-с, а мне могут не нравиться ваши или тех, что там у вас есть… без сомнения, близкие вам люди. Я — других правил. Я решителен и справедлив. У меня там два племянника. Вот его, брата моего, сыновья. Единственная опора семейства-с. Мать — слабая, да, видите, и родитель не особенно здоровый человек. Но я говорю, что ж такое? Если заслужили…
Молодой человек отошел. Другие прислушивались.
Среди гробовой тишины, в которой как-то хотелось еще больше затихнуть, спрятаться, быть еще больше одному — осмелился раздаться этот громкий голос. Он тревожил слух, поднимал негодование, терзал и вдруг как-то странно ободрял. Семья в горе рада приходу постороннего; к безнадежно больному зовут знахаря. Это было что-то похожее. Люди сторонились друг от друга, между тем как всякий знал, что дело у всех — общее, что забота — одна, что не может быть даже глупо отдаляющего ложного стыда. Но всякому было до того жаль только себя, только своих, до того думалось только о своем, что чужое, одинаковое, видимое горе — казалось будто не горе, а так что-то лишнее, беспокоящее, неприятный предмет, на который смотреть не хотелось. Горе озлобило до неприязни… И вдруг кто-то заговорил громко. Что бы ни говорилось, но говорилось громко. Стало быть, это можно?.. Стало быть, где-то может таиться какая-нибудь надежда? Нет, надежда — сказать много, но… что-то. Что-то неопределенно светящее; что-то, как вот сейчас, струя воздуха с реки, прохлада, от которой чуть-чуть пошире вздохнулось и приподнялись головы… Над головами будто что давит, как низкий свод. Нет, ведь там только небо, но этот свод уж так высок, что выпрямиться, взглянуть — страшно: вдруг рухнет. Голова и гнется, ждет удара. Но что если, может быть…