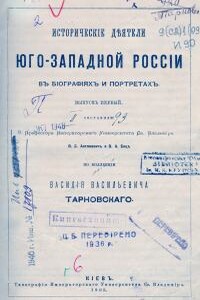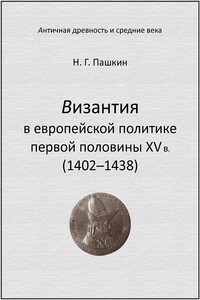Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда | страница 29
Эти явные противоречия и неуверенность в передаваемом факте со стороны составителя Густинской летописи должны были навести сомнение и на рассказ Стрыйковского: тем не менее последний принят был с большим или меньшим доверием многими историками благодаря изобилию подробностей, уверенности, господствующей в тоне рассказа и, особенно, вследствие того, что он в продолжении весьма долгого времени повторялся многими писателями, черпавшими свои известия из хроники Стрыйковского.
Обратимся к самому рассказу и к его подробностям и сличим их с более достоверными источниками:
Главный сюжет всего рассказа — завоевание Волыни и Киева Гедымином около 1320 г., сам по себе не выдерживает критики: относительно Волыни мы имеем несомненные свидетельства, что область эта сохранила свою самостоятельность под управлением потомков Даниила Романовича да 1335 — 1340 годов, и затем перешла во власть Любарта Гедыминовича по наследству, без завоевания. Факт этот подтверждается как свидетельством древнейшей Литовско-русской летописи, так и указаниями семи современных грамот, писанных от имени волынских князей в период времени с 1316 по 1335 год. С 1316 по 1324 г. в Галиче и Волыни княжили Андрей и Лев Юрьевичи [37],заключившие в 1316 г. союз с Тевтонским орденом и в 1320 торговый договор с городом Торном. Из письма польского короля Владислава к папе Иоанну XXII мы знаем, что князья эти скончались в 1324 году. С 1325 по 1335 год до нас дошли четыре грамоты их наследника, Юрия II, подтверждающие союзный договор Галича и Волыни с Тевтонским орденом. Во всех перечисленных грамотах писавшие их князья именуются князьями владимирскими или датируют грамоты из столицы своей — Владимира [38].
Таким образом, указанные грамоты доказывают независимость Волыни до 1335 года. В подтверждение этого факта существует притом свидетельство русских летописей. Под 1331 годом в них помещен следующий рассказ, относящийся к истории русской церкви: митрополит Феогност уехал из Владимира на Клязьме в Южную Русь в 1328 году; он посещал разные города своей митрополии, был в Киеве, Галиче и, наконец, в 1331 году поселился в Владимире-Волынском; отсюда он известил новгородцев, что он намерен рукоположить избранного ими в архиепископы Василия и вызвал последнего на Волынь. В конце июня нареченный новгородский владыка в сопровождении знатных бояр отправился в путь; полагаясь на мир с Литвой, депутация ехала на Волынь ближайшей дорогой, через литовские владения; но Гедымин нарушил мир, задержал на пути владыку и бояр и отпустил их лишь тогда, когда новгородцы выдали ему обязательство предоставить в своей области удел в пользу его сына Наримунта. Достигнув Волыни, Василий был рукоположен митрополитом в новгородские владыки, но, вслед за тем, явилось новое за, труднительное для него обстоятельство: в одно почти время с Василием явились во Владимир-Волынский к митрополиту посольства от псковичей, от Гедымина и от других князей литовских с просьбой о рукоположении в псковские епископы избранного псковичами Арсения; новгородцы воспротивились этому предложению, так как Псков входил до того времени в состав Новгородской епархии и выбор отдельного епископа имел значение окончательного разрыва зависимости Пскова от Новгорода, считавшего Псков своим пригородом. Митрополит склонился к представлениям новгородцев и отказал в удовлетворении просьбы посольств псковского и литовского; «Арсений уехал со Псковичи посрамлен от митрополита». Но это посрамление раздражило против новгородцев Гедымина, поддерживавшего стремления псковичей; и потому, когда новопоставленному новгородскому владыке пришлось возвращаться на родину, то он «поехал на Киев, бояся Литвы». Между тем как он объезжал литовскую границу «меже Литвы и Киева», он получил предостережение от митрополита, что литовский отряд направлен с целью перехватить его на дороге; Василий ускорил свое шествие, достиг благополучно Киева и оттуда направился в Чернигов; но у этого города его встретила новая опасность; поезд его нагнал «киевский князь Федор с баскаком татарским, а с ними человек 50, разбоем». Дело, впрочем, кончилось без кровопролития; киевский князь взял с новгородцев выкуп и возвратился в Киев, владыка же поехал через Брянск в Новгород.