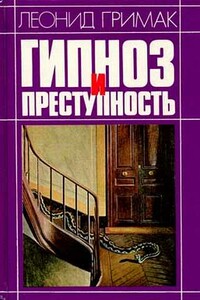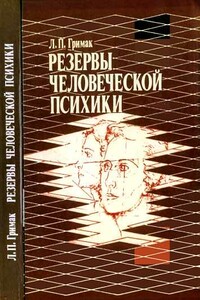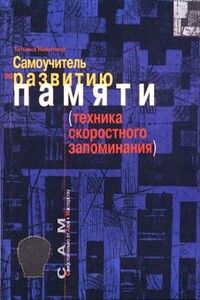Общение с собой. Начала психологии активности | страница 14
Диалог дает толчок рождению формы для еще неосознанного, делает его явным. Смутная идея принимает очертания благодаря словам, обращенным к себе как собеседнику.
Итак, основа общения человека с самим собой — его же собственная внутренняя речь, так как основой речемыслительных процессов является диалог. К такому выводу склоняется В. Ф. Будде в своем труде «К истории великорусских говоров». На такую же точку зрения твердо стал академик Л. В. Шерба, изучивший в начале века язык лужичан — маленькой славянской народности, жившей среди немецкого населения в Средней Европе. Но. пожалуй, наиболее точно и ясно эту идею выразил Ф. М. Достоевский. Гениальная интуиция психолога подсказала ему, что диалог, явное или неявное раздвоение — сущностная черта бытия человека. Потому его герои постоянно обращаются в мыслях не только вовне, к другим людям, но, непременно, и к самому себе, тем самым задавая себе большую и напряженную внутреннюю работу. Этим самым писатель как бы утверждает, что жить — это значит непрерывно общаться с самим собой. Адекватное изображение «глубин души человеческой», которое Достоевский считал главной задачей своего реализма «в высшем смысле», может быть достигнуто только в напряженном обращении к самому себе, к другим. Вот почему в центре художественного мира Достоевского находится диалог, притом диалог не как средство, а как самоцель.
«Диалог здесь, — пишет М. М. Бахтин, — не преддверие к действию, а само действие… Здесь человек не только проявляет себя вовне, а впервые становится тем, что он есть… не только для других, но и для себя самого. Быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается… Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса — минимум жизни, минимум бытия»[13].
Характерно, что внутренний диалог героев Достоевского с точки зрения общения с собой представляется как противостояние человека человеку внутри себя, как диалог «Я» и «другого». Я-то один, а они все, думал про себя в юности «человек из подполья». Мир распадается для него на два стана, в одном — «Я», в другом — «они», то есть все без исключения «другие», кто бы они ни были. Каждый человек су шествует для него прежде всего как другой. А сам факт такого представления свидетельствует об изначальной социальной сущности нашего внутреннего «Я», неизменной и непрерывной тенью которого является «не-Я», мое социальное окружение. Как здесь не вспомнить предельно точные строки поэта И. Анненского: