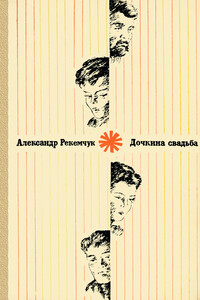Мальчики | страница 38
Но гораздо больше, чем замершего в чуткой тишине зала, я боюсь этих длинных коричневатых пальцев. То ость я их вовсе не боюсь, а просто привык им подчиняться беспрекословно, как божьей воле. И дрожь о коленках унимается. Весьма кстати: ведь если бы коленки продолжали дрожать, то дрожь непременно передалась бы и голосу - и вышел бы препротивный "барашек".
Стариковские руки медленно поднимаются.
То не белая береза к земле клонится,
Не шелковая трава преклоняется...
Порядок. Первые фразы спеты нормально. Как на репетициях. Правда, на репетициях мне доводилось петь в очень маленьком зале училища. Я еще никогда не слышал своего одинокого голоса в таком просторе, как этот большой консерваторский зал, который не случайно называется Большим залом. До чего же отчаянно далеки крайние ряды этого зала, как отдален и высок балкон! А ведь и там сидят люди. Они деньги за билеты платили, Слышно ли им?..
Но я уже знаю, что слышно. Я даже не пытаюсь напрягать голос, да это и запрещено нам строго-настрого, однако твердо знаю, что меня слышат в самых последних рядах. Потому что мой голос л_е_т_у_ч. Если бы даже я сейчас пел совсем тихо, пианиссимо, его все равно бы услышали там, поскольку он обладает должной полетностью. Да, услышали бы - и без всяких микрофонов, без всяких динамиков. Нет, то сын перед матерью поклоняется...
Рука дирижера ложится на белый пластрон, на грудь. Я понимаю, что это означает. Это означает, во-первых: "Женя, поставь звук на диафрагму... Вот так, хорошо". Это означает, во-вторых: "Женя, сердечней, сердечней... ведь это с_ы_н поклоняется перед м_а_т_е_р_ь_ю". Это означает, в-третьих: "Женя, не "акай", пожалуйста, "о-о"..."
Я все это отлично понимаю. Я стараюсь. Я держу звук на диафрагме: слышите, как он глубок? Я представляю себе, как должен поклоняться сын родной матери. У меня тоже была мама. Я поклоняюсь ей.
Я торжественно "окаю":
...пОклОняецца...
Привет, Джованни Палестрина! Ты, который жил четыреста лет назад. А знаешь ли ты, что эту песню, эту былину, которую я пою сейчас, пели еще за четыреста лет до тебя? Ее пел Боян. Ее пели гусляры - зрячие и слепые. И, может быть, русоголовые мальчики-поводыри тоже пели эту песню о славном Добрыне Никитиче...
Вступает хор.
Потом долго гремят аплодисменты.
Потом я - уже не на словах, а на деле - поклоняюсь. Публике. На последних репетициях меня научили прилично раскланиваться.
- Композитор Белый, "Орленок", - объявляет ведущий.