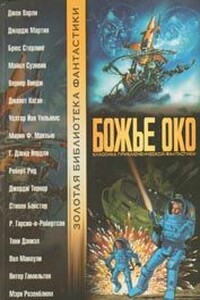Навязчивость зрения | страница 35
Вначале я решил, что то, что не позволяет мне отчетливо сформулировать интересовавший меня вопрос о Дженет Рейли — это плохое владение стенографией. Потом я увидел, что они сознательно не отвечают мне. Имя Дженет Рейли соответствовало тому человеку, которым она была извне, а одним из условий, на которых только она и взялась за руководство, было в том, что в том, что в коммуне она не будет выделяться ничем. Она растворилась в группе и исчезла. Она не хотела, чтобы ее обнаружили. Ну что же, пусть так.
Но пока я настойчиво задавал вопросы о ней, я обнаружил, что ни у одного члена коммуны не было определенного имени. Это значило, что, например, у Пинк было не меньше ста пятнадцати имен — по одному от каждого из остальных. Каждое из имен определялось историей ее отношений с этим человеком. А мои простые имена, основанные на описании внешности, были приемлемы — как и прозвища, которые дает ребенок. Дети, еще не научившиеся проникать во внутренние слои языка, употребляли имена, говорившие о них самих, их жизни и их отношении к этим людям.
Еще больше запутывало дело то, что имена день ото дня претерпевали изменения. Это было моим первым, испугавшим меня, впечатлением от Касания. Даже на первый взгляд оказывалось не меньше тринадцати тысяч имен, и они не оставались постоянными — так чтобы я мог их запомнить. Если Пинк говорила мне, к примеру, о Лысом, она пользовалась созданным ею именем на языке Касания, причем измененным, поскольку она говорила со мной, а не с Толстяком-коротышкой.
Когда мне открылись глубины неведомого ранее, у меня захватило дух от страха высот.
Касанием они пользовались для бесед друг с другом. Это была невероятная смесь всех трех остальных языков, которые я уже знал, и суть его была в непрерывном изменении. Я мог слушать, когда они говорят со мной, пользуясь стенографией, которая и лежала в основе Касания, и ощущать под ее поверхностью его глубинные потоки.
Это был язык для изобретения языков. Каждый говорил на собственном диалекте, потому что пользовался другим орудием речи: телом и жизненным опытом. И на этот язык влияло все. Он не соглашался стоять на месте.
Они могли сидеть на Собрании и изобретать совершенно новый вариант Касания для этого вечера: идиоматический, личный, абсолютно обнаженный в своей честности. А на следующий вечер он служил лишь кирпичом для создания нового языка.
Я не знал, хотелось ли мне такой обнаженности. Незадолго до этого я поразмыслил о том, что собой представляю и то, что я увидел, меня не удовлетворило. Осознание того, что каждый из них знал обо мне больше, чем я сам — потому что мое тело честно высказало то, чего не хотел раскрывать напуганный разум — действовало разрушающе. Я голым стоял в луче прожектора на сцене Карнеги-холла и все мои кошмары, связанные с собственной наготой, начинали преследовать меня. Того, что они любили меня таким, какой я есть, внезапно оказывалось мало. Мне хотелось сжаться в комок в темной каморке вместе со сросшимся со мной "я" и позволить ему истязать меня.