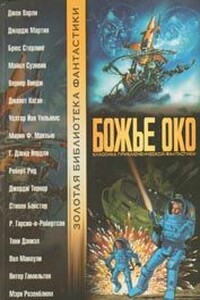Навязчивость зрения | страница 30
Я сделал жест, обозначавший местоимение первого лица единственного числа, и она остановила меня.
Как я мог рассказать ей о своей жизни в Чикаго? Должен ли я говорить о своем детском стремлении сделаться писателем, и о том, что из этого ничего не вышло? И что было тому причиной? Нехватка таланта или целеустремленности? Я мог рассказать ей о своей работе, которая, по сути, состояла из бессмысленной перетасовки бумаг; польза от нее была лишь Валовому Национальному Продукту. Я мог рассказать о подъемах и спадах экономики, которые и привели меня в Келлер, когда ничто другое не способно было сбить меня с проторенного жизненного пути. Или об одиночестве сорокасемилетнего, ни разу не нашедшего того, кого стоит полюбить и которого никогда не любили. О том, каково все время быть перемещенным лицом в обществе из нержавеющей стали. Женщины на одну ночь, пьянки, работа с девяти о пяти в Чикагском Управлении Перевозок, темные кинотеатры, футбольные игры по телевизору, снотворные, башня имени Джона Хэнкока [небоскреб в Чикаго; Джон Хэнкок (1737-1793) — американский государственный деятель; первым подписал Декларацию Независимости], окна которой не открывались, так что вы не могли вдохнуть смог или броситься вниз. И это был я, ведь так?
— Понимаю, — сказала она.
— Я путешествую, — сказал я, и внезапно понял, что это правда.
— Понимаю, — повторила она. Это был другой жест для того же слова. Все зависело от контекста. Она услышала и поняла того меня, которым я был раньше, и того, которым, как надеялся, стал.
Она лежала на мне, слегка касаясь ладонью моего лица, чтобы уловить быструю смену эмоций, пока я впервые за многие годы думал о своей жизни. А она смеялась, и шутливо покусывала мое ухо, когда мое лицо сказало ей, что я впервые, насколько я себя помню, счастлив. Не просто говорю себе, что я счастлив, а и в самом деле счастлив. На языке тела ты не можешь солгать, точно так же как твои потовые железы не могут солгать полиграфу.
Я заметил, что комната непривычно пуста. Из своих неумелых расспросов я узнал, что здесь лишь дети.
— А где все? — спросил я.
— Все они снаружи, ***, — сказала она. Выглядело это так: три резких хлопка по груди ладонью с раздвинутыми пальцами. Вместе с жестом, обозначавшим: «множественное число третьего лица глагола», это означало, что они снаружи, и ***. Излишне говорить, что мне это мало что объяснило.
А кое-что объяснило мне то, как она говорила это на языке тела. Я читал ее слова лучше, чем когда-либо. Она была расстроена и печальна. Ее тело говорило что-то вроде: «Почему я не могу присоединиться к ним? Почему не могу я (обонять-пробовать на вкус-касаться-слышать-видеть) — ощущать вместе с ними?» Вот что именно она говорила. И на этот раз я не вполне мог довериться своему пониманию, чтобы принять такой смысл ее слов. Я все еще пытался втиснуть переживаемое мной здесь в свои представления. Я решил, что она и другие дети в чем-то обижены на своих родителей, поскольку был уверен, что так и должно быть. Они должны в чем-то чувствовать свое превосходство, должны чувствовать, что их ограничивают.