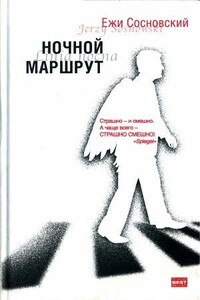Тоска по Лондону | страница 12
Кстати, если руководящий дядя не закажет, тем для него хуже. За изделия духа надо платить не только деньгами, но и всенародной славой. Тогда и рождаются шедевры, достойные всякой великой эпохи. Но для меня литература, критика, политика — полно, я уже вне этого. Творческая свобода моя гонорарными соображениями не стеснена. Не пишу чего не желаю. И, что всего важнее, пишу как пишется, а не как это принято в соответствии с утвержденным на данный момент стандартом, раз и навсегда определившим, что вот такой сложности язык еще понятен народу, а дальше ни шагу! А я дальше. То с респектом к морфологии и синтаксису, как в школе учили, то безо всякого шиша, не до него бывает.
Но и не это главное. Главное — свобода бытовая. Это вам не то, что свобода слова, это подлинное. Это когда выходишь из дома (из лачуги, берлоги, вылезаешь из дупла) просто так, ничто не назначено, ни работа, ни пресс-конференция, ни даже ланч, и несут тебя ноги куда глаза глядят, останавливаешься, и стоишь, и пялишь глаза на деревья, на окна, на купола соборов — пока не надоест. И никому ты не нужен и не обязан, нигде не ждан и не расписан. Вот что такое свобода.
Когда я пришел к ним в посольство в Вашингтоне проситься обратно, они без обиняков спросили: где гарантия, что вы станете писать то, что нужно народу? Вот она, сказал я и похлопал себя по животу. Ни раскаяния, ни преданности не разыгрывал, они-то себе цену знают. Да хоть бы я и вовсе ничего нового не написал, у вас же залежь неизданных моих опусов. Тогда они опережали эпоху, зато теперь придутся в самый зад.
И меня впустили обратно.
Оказалось, однако, переоценил я свои услуги. (Чуть не сказал заслуги.) Ничего не издали. И не переиздали. Обещали. И я тоже: войду в колею и накатаю роман. О современнике. О передовом человеке, живом и теплом. О гармоничном строителе котлована, непьющюм, не мне чета, о самоотверженном производственнике, верном муже (жене) и чадолюбивом отце (матери) — что нужнее, она ли, он ли, — сочетающем титскую всесторонную развитость с политической зрелостью космической эры. Мне бы лишь авансик, хоть небольшой. Аванс? Можно, пришлите несколько глав.
Так ходили вокруг столба, а потом заколдобило что-то, и я не получил очередной посылки из капиталистического ада. Вдруг перестали доходить посылки. Охлял я, на ракового больного стал похож. Звоню в издательство, в центральное, в столицу нашей родины, Белокаменную некогда: согласны ли говорить за счет издательства, своего у меня уже нет? Да, согласны. Братцы и сестрицы, смилуйтесь, пришлите аванс хоть под десять листов, отработаю честью. Помните, говорю, мою фразу из опуса, ныне ставшего классическим? (Классическим по уровню дурацких надежд…) Какую? Доверие порождает самоотверженность, отвечаю. Ей-ей, я все тот же (болван). Ну пожалуйста. Авансик. Обождите, говорят, не отходите от телефона, мы посоветуемся с руководством. Вишу на проводе за их счет пять минут, вишу десять, пятнадцать, уже и совесть меня подъедает, и под ложечкой сосет от чувства вины и обязанности. Унизительно это стояние в прихожей. Ничего еще не дали, а уже обязали, уже купили. Телефонистка время от времени врубается: «Разговариваете?» — О, еще как! — Что-то не слышу. — А вы должны?» Через полчаса сюрприз — сам Зинаид, так певуче! Сладкий наш, разненаглядный, надежда отечественной прозы, да мы навстречу семимильными сапогами — (да прямехенько сапожищами по доверию: деньги высылаем по получении заявки на предполагаемое произведение. Окей, бухнул я. За ночь и накатал. Утром отправил. Обычно это такая тягомотина, месяцами ждешь. А тут через неделю (только почте сработать! — уже сидел я в строгой изоляции в диспансере нервном.