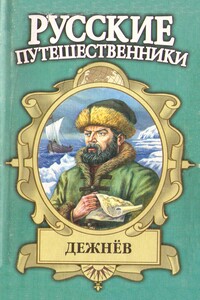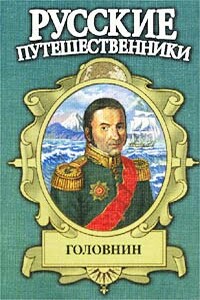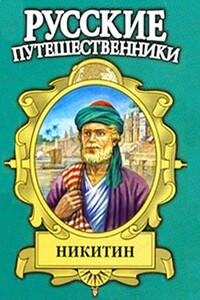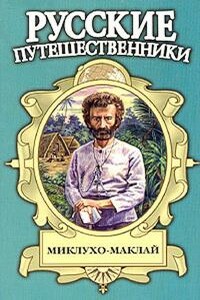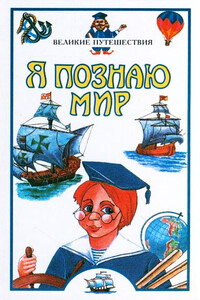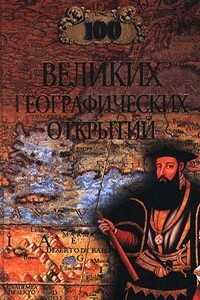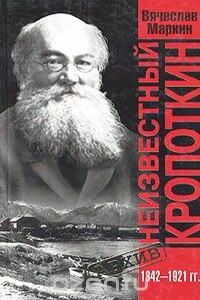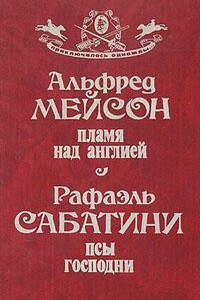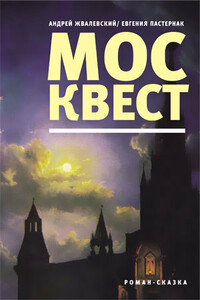Исторические портреты: Афанасий Никитин, Семён Дежнев, Фердинанд Врангель... | страница 41
Крашенинников этим и занимался: описывал горы, реки, озёра, леса, болота Камчатки. Сотни километров преодолел он. Особенно интересным было зимнее путешествие 1739—1740 годов вдоль тихоокеанского побережья на север. По долинам рек Карага и Лесная «студент» вышел на Охотское побережье, прошёл по нему на юг до реки Тигил и вернулся в Нижнекамчатск. Не раз пересекал он весь полуостров по долинам рек Камчатка и Быстрая. В пути довелось наблюдать камчатское землетрясение: «...земля так затряслась, что мы за деревья держаться принуждены были, горы заколебались, и снег с оных покатился». Был и на юге Камчатки — на небольшом, но глубоком (до 300 метров) озере Курильском.
Через всю землю Камчатскую
В январе 1738 года Крашенинников отправился из Большерецка в свой первый поход по Камчатке. Он проехал на собаках от западного берега до восточного, в южной части полуострова, там, где он заостряется, как клюв птицы, добрался до Авачинской сопки. Узнал от камчадалов, что она «курится беспрестанно». Собаки запрягались в своеобразные санки, имевшие вид корзины, установленной на двух стойках, прикреплённых к полозьям. Погонять надо было длинной кривой палкой — «оштолом», с колокольчиками на конце.
«...Неспокойство в езде бывает, когда на пустых местах застанет вьюга. Тогда с возможным поспешанием надлежит с дороги в лес сворачивать и лежать вместе с собаками, пока утихнет погода, которая иногда по неделе продолжается. Собаки лежат весьма тихо, но в случае голода объедают все ремни, узды... и прочие санные приборы... когда погода застанет на чистой тундре... тут какого-нибудь бугорка ищут и под него ложатся, а чтоб не занесло и не задушило снегом, то каждую четверть часа вставши отрясаются».
Самая опасная езда — по речному льду: «по самым узким закраинкам, а буде обломятся или санки в воду скатятся, то нет никакого спасения».
Весной 1738 года, пока ещё не сошёл снег, Крашенинников съездил, на крайний юг полуострова, доехал почти до мыса Лопатка, побывав на горячих ключах у Курильского озера. Его поразил «оазис тепла» вокруг горячих ключей: в окружении глубоких снегов на зелёном лугу цвели фиалки, а в озёрах в клубах пара плавали утки и лебеди, не улетавшие из этих благодатных мест на юг.
В истоках реки Семячик Крашенинников наблюдал, как «... горячий пар выходит с великим стремлением и шум воды клокочущей слышится... пар идёт столь густой, что в семи саженях человека не видно».
Своего помощника Степана Плишкина с толмачом Крашенинников отправил разведать «Курильскую землицу» — острова, видимые с крайнего южного мыса Камчатки. Плишкин вышел к заострённому «клюву» полуострова — мысу Лопатка и сплавал на два самых северных острова Курильской гряды. Всё, о чём он рассказал, Крашенинников включил в свой отчёт академикам, посланный в Якутск в 1740 году, на третьем году камчатского путешествия. Вместе с отчётом отправил четыре ящика собранных научных коллекций. Он ожидал получить с кораблём, пришедшим в Большерецк из Охотска, жалованье за прошедшие годы, но ничего не поступило.