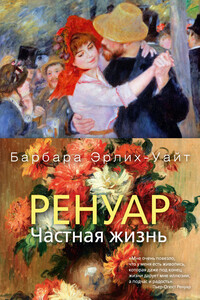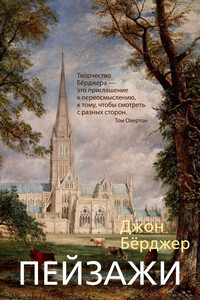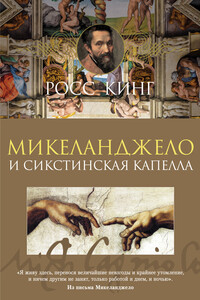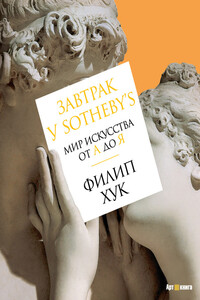Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает | страница 79
Существуют различные виды нечестности. Коллиса Хантингтона, одного из наиболее грубых и вульгарных представителей первого поколения американских магнатов, однажды назвали «безукоризненно нечестным»; он принадлежал к числу дельцов, которые в XXI в. стали бы осуществлять сомнительные операции под защитой высокопрофессионального отдела, обеспечивающего контроль над соблюдением законодательства. Дювин же был «восхитительно нечестен», его бравада опьяняла. Он брал у вас деньги, но при этом доставлял вам радость, а иногда вы даже получали от него вполне недурную картину, хоть и переплачивали за нее. «Он был неотразим, — писал Кеннет Кларк. — Его самоуверенность и дерзость невольно передавались окружающим, и в его присутствии все начинали вести себя так, словно были слегка навеселе». Дювин любил риск и расцветал в атмосфере опасности, с удовольствием преодолевая препятствия, которые сам же и воздвиг у себя на пути, безосновательно критикуя или хваля то или иное произведение искусства. Он неизменно преувеличивал, и ничего не мог с этим поделать. Напротив, Беренсона терзало сознание собственной нечестности. «Знаете, дорога в ад вымощена благими намерениями», — признавался он Кеннету Кларку в 1934 г.
Такие торговцы предметами искусства, как Дювин, Селигманн, Нёдлер, Эгню, Кольнаги и Вильденстейн, научили целое поколение американских магнатов начала XX в. превыше всего благоговеть перед картинами итальянского Ренессанса и выражать свой благоговейный трепет в тех суммах, которые они на них тратят. Для того чтобы как-то оправдать высокие цены, требовался новый уровень образования и искусствоведческой экспертизы, а их обеспечивало Дювину незаменимое посредничество Беренсона. Насколько, например, торговля картинами конца XIX — начала XX в. способствовала созданию культа Джорджоне? Признанной и чрезвычайно желанной величиной в ту пору считался Тициан, ведущий мастер венецианской школы. Короли, императоры и высшие представители знати на протяжении многих веков пытались заполучить его картины. Однако внезапно торговцы обнаружили, что в Джорджоне есть что-то придающее ему дополнительную привлекательность. Он был не только гениален, его окружала некая романтическая аура. Именно он внес в венецианскую живопись начала XVI в. элемент таинственного, неутолимого желания, на который столь проницательно обратил внимание Уолтер Пейтер в своем очерке «Школа Джорджоне» (1877), где он во вкусе XIX в. воссоздает образы томных, тоскующих пастушков, играющих на свирели в идиллической Аркадии под журчание ручья.