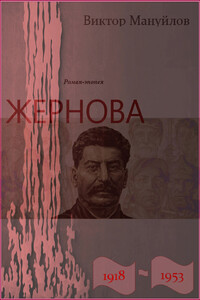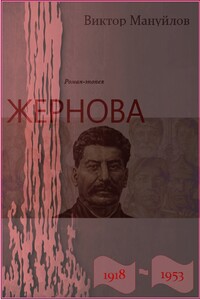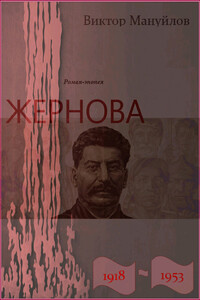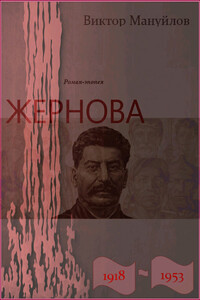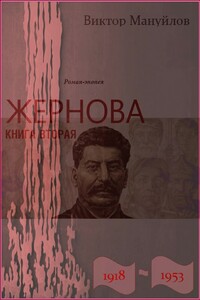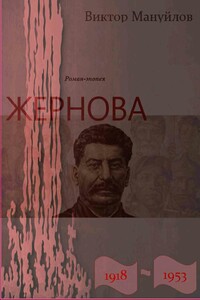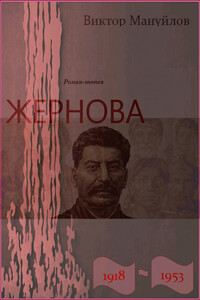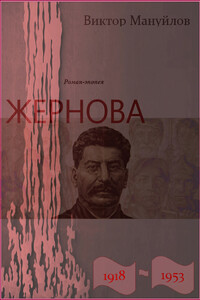Жернова. 1918-1953. Вторжение | страница 35
— Ну и что? Маленький, что ль, твой Вася? Приедет, на работу пойдет, счас всем на работу идти велено, больной али немощный какой, в отпуску али еще где, а все при деле должны находиться. Потому как — война.
Вечером из Спирово вернулся Михаил Васильевич, сказал, что достать билет невозможно, все поезда идут полнехоньки, но он попросил свояченицу, она в Спирово учительствует, чтобы достала, а ему недосуг там задерживаться: дела.
И Мария стала ждать.
Днем то за детьми смотри, то по дому работа, то в поле, — некогда переживать и оставаться наедине со своими страхами, а как в доме стихнет все, лишь сверчок за печкой заливается, так тоска схватит за сердце когтистой лапой и давай царапать и сдавливать, и кажется Марии, что Вася ее где-то в чистом поле лежит раненый, зовет ее, Марию, а она здесь, в деревне, и некому ему, Васе ее, помочь, водицы дать, пот отереть со лба, приголубить. Заплачет Мария горькими слезами да так на мокрой подушке и уснет. А с утра все то же: дети, хозяйство, работа…
Миновал день, другой, третий. И однажды под вечер прибежал из правления Михаил Васильевич и прямо с порога крикнул:
— Маня! Где ты там? Сбирайся давай! Только что позвонимши из Спирова… Аня сказамши, что билет купимши тебе на сегодня, на девять вечера.
Ахнула Мария, схватилась за вспыхнувшее лицо обеими ладонями, заметалась.
— Да ты не спеши, Маня, — перевел дух Михаил Васильевич. — До девяти-то еще много времени, успеем. Я уж велел бричку заложить. Поедем через Заболотье, поспеем к поезду-то.
К поезду поспели. Михаил Васильевич затолкал в тамбур все Манины вещички и детишек, расцеловал их напоследок и едва успел соскочить с подножки — поезд уж тронулся. А в тамбуре полно молодых командиров, стоят, курят. Весело подхватили Манины пожитки да деревенские гостинцы, ребятишек тоже, рассовали по полкам. В вагоне шумно, играет гармошка, поют про трех танкистов, трех веселых друзей, про то, что «броня крепка и танки наши быстры» — и вообще очень весело, будто не на войну едут, а на свадьбу. Впрочем, ведь и действительно не на войну — пока еще только до Ленинграда. А война — она где? — о-ё-ёй где! И Маня, которая все эти дни жила в тревоге за Василия, успокоилась. Но напротив сидел дядька, лет, пожалуй, за пятьдесят, небритый, на одной руки всего два пальца, сидел, откинувшись к стенке и бубнил:
— Германец, это вам не финны. Финны и те попервости наложили нам так, что досе чешемся. А германец — я его знаю — он ворог сурьезный, если решил чего, так будет переть и переть. Шуточное ли дело: всю Европу под себя подмял. А вам все хаханьки да хиханьки. Молодые еще — все оттого.