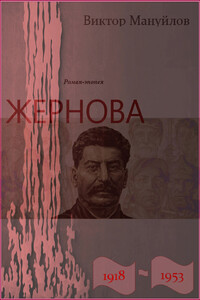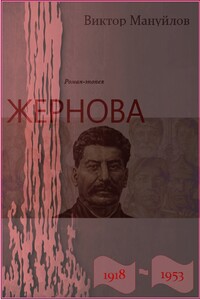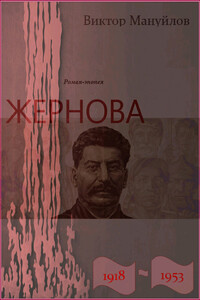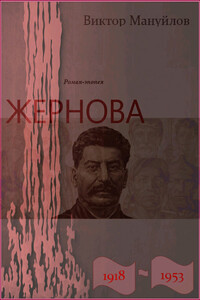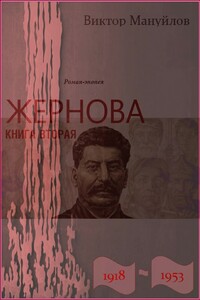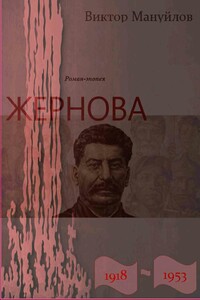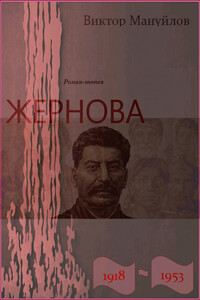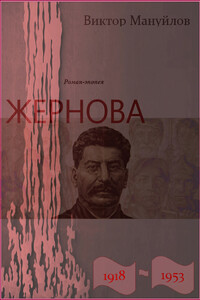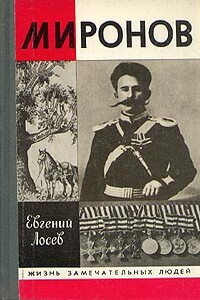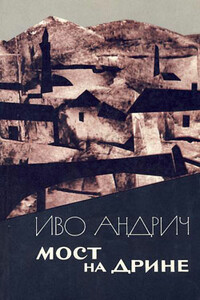Жернова. 1918-1953. Вторжение | страница 26
Старший лейтенант с трудом разлепляет тяжелые веки и видит над собой скуластое лицо с раскосыми глазами, в которых застыло отчаяние и ужас. Кровать ходит ходуном, звенят стекла, хлопают двери, стоит адский грохот. Дмитриев зажмуривает глаза, но звуки не исчезают. Кто-то трясет его за плечо и орет дурным голосом:
— Таварыш камандыр! Вставай нада! Самалот лытай нада! Вайна, таварыш камандыр!
«Какая еще к черту война? — сквозь похмельное отупение пытается пробиться к реальности Дмитриев. — Это мне снится. И окровавленное лицо Лешки — тоже».
Но отчаянный крик слишком настойчив, твердые звуки «а» безжалостно сверлят одурманенный мозг, и Дмитриев снова открывает глаза.
Скуластое лицо, раскосые глаза — все повторилось.
— Ты чего орешь? — на всякий случай спрашивает Дмитриев, щупая смятую постель: Клавочки нет, значит, уехала.
— Вайна, таварыш камандыр! — обрадовалось лицо. — Самалот лытай нада! Мыхалав ехай нада!
И тут до старшего лейтенанта доходит, что перед ним посыльный из полка, что грохот за окнами гостиницы и нервный звон стекла — реальность, что сон его переплелся с явью, что он проспал начало войны, что его товарищи в воздухе, дерутся с немцами, а он в постели, в одних трусах…
Дмитриев рванулся, чуть не сшибившись лбами с посыльным красноармейцем, начал шарить одежду. Красноармеец, что-то лопоча, путая русские слова с родными, помогал ему одеваться.
Где-то настойчиво и методично ухали разрывы бомб. «Полусотки, — определил Дмитриев. — Станцию бомбят». Потом в эти звуки вклинились другие, более слабые: гул самолетов, крики, топот ног в гостиничных коридорах, тряский перестук тележных колес.
Дмитриев выскочил из номера.
В коридорах метались люди, в основном женщины и дети. Молодая женщина, с распущенными волосами и широко распахнутыми от ужаса глазами, кинулась к нему, вцепилась в рукав гимнастерки.
— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Господи! Что же нам делать? Куда идти? Это война или провокация?
— Война! — крикнул Дмитриев, пытаясь оторвать от себя руки женщины. — Уезжайте отсюда! Уезжайте в Россию! Только не на станцию! Там бомбят. Пешком. На попутках! Уходите!
Он кричал громко, чтобы слышали все: и кто был в коридоре, и кто выглядывал из номеров, и кто не выглядывал, выкрикивал, впервые с каким-то мстительным наслаждением произнося слова, которые слишком долго были запретными:
— Уходите! Все уходите! Быстрее уходите! Война!
Его обступили, к нему тянулись руки, он видел наполненные слезами глаза, перекошенные страхом лица. Это были все жены командиров, многие с детьми, привыкшие находиться рядом со своими мужьями. Бросить мужей в такую минуту, бежать куда-то — не только страшно, но и немыслимо. Он мог бы сказать этим беззащитным женщинам, что войск поблизости нет — таких войск, которые могли бы противостоять немцам, а те, что есть, застигнуты врасплох, гибнут под бомбами, что немцы не сегодня-завтра окажутся здесь, во Львове, что они все стали заложниками чьей-то преступной глупости.