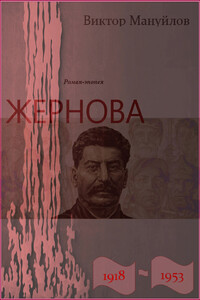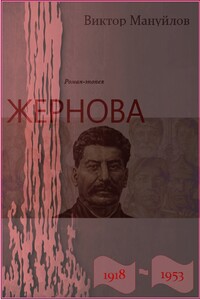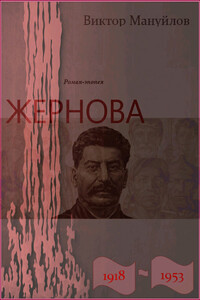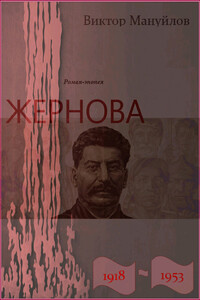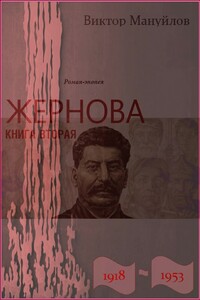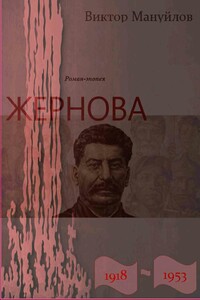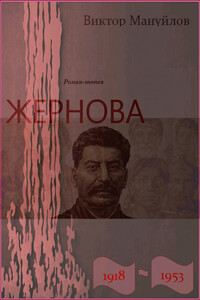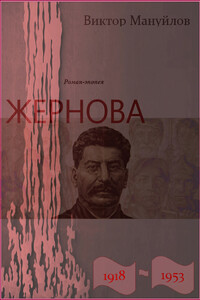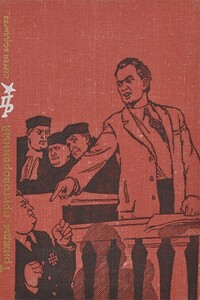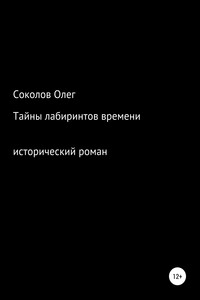Жернова. 1918-1953. Вторжение | страница 17
Михайлов взял Дмитриева под руку, отвел в сторонку, чтобы никто не слыхал.
— Я все понимаю, Вася, — заговорил он сочувственно. — Но приказ есть приказ. Инструкции есть инструкции. Так что… Впрочем, вот тебе мой совет: возьми и напейся. Даю тебе увольнение до завтрашнего вечера. Нет, даже до понедельника. Поезжай во Львов, запрись в гостинице, чтобы никто не видел, и напейся. Вот все, что я могу для тебя сделать.
И старший лейтенант Дмитриев решил последовать этому мудрому совету.
Вообще-то он пил редко и помалу. Не тянуло. Да и не до этого было. Дело свое любил, а оно не оставляло времени ни на что другое. Был счастлив, что выбрал профессию военного летчика, и уже не помнил о том, что в школе собирался стать агрономом. А еще Дмитриев считал себя везучим человеком. В одном ему не повезло — не попал в Испанию. Хотя очень туда с Михайловым стремился. Впрочем, туда все стремились, да не все попали. Зато с япошками и финнами схлестнуться довелось. И получилось весьма неплохо. Получил «Знамя» и «Звездочку» — не хухры-мухры. Опять же, приобрел опыт, уверенность в себе. А это кое-что значит, если учесть грядущую войну с фашистами. Так что на судьбу жаловаться ему не престало. Вот только с женщинами не везло. И не урод вроде бы, хотя и не красавец… Так разве во внешности дело? Душа — вот главное. А душа у Дмитриева азартная и певучая. Только женщины почему-то этого не видят и не слышат. Настоящие женщины, разумеется.
До Львова старший лейтенант Дмитриев добрался на полковой полуторке, ехавшей в город за продуктами. Сидел в тесной кабине рядом с буфетчицей Клавочкой, чувствуя жар ее молодого тела, невпопад отвечал на глупенькие Клавочкины вопросы, не замечая масляных глаз и припухлых губ, раскачивающихся в опасной близости от его лица. Он настолько еще был переполнен недавним полетом, своими промахами, что все остальное казалось мелким, не имеющим к нему, Дмитриеву, никакого отношения.
«Приеду и напьюсь, — твердил он себе словно заклинание. — И пошло оно все к черту!»
Нервы у него, действительно, были на пределе, и сегодня он чуть не сорвался.
«У-у, гады! У-у, сволочи!» — ругался Дмитриев про себя, уже никого не имея в виду, а больше по привычке.
Он ругался, а Клавочка о чем-то болтала, о чем-то веселом, беззаботном, и Дмитриеву странными казались и ее неуместная веселость, и почти преступная беззаботность. Он жалел, что сел в кабину, а не в кузов: там не так жарко, там он был бы избавлен от этой глупой болтовни.