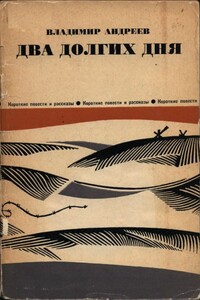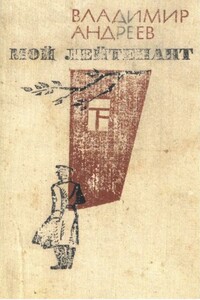В день первой любви | страница 73
— Хозяин? — спросил Зигфрид, как и в первый раз.
— Да, — ответил старик.
— А хозяинка?
— Там, — показал Трофимов на избу. — Своими делами занимается.
— Карашо. Очень карашо. Делами…
Ласковый теплый ветер шевелил поседевшие космы Трофимова. «Чего ему надо? Зачем, он пришел? Может, сказать старухе, чтобы вынесла яиц или молока?» — размышлял старик, настороженно поглядывая на немца из-под нависших взлохмаченных бровей.
Вдруг солдат лукаво подмигнул ему светло-серым навыкате глазом.
— А фрейлейн где? Внушка?
Сердце старика заныло.
— Нету ее, — ответил он осипшим голосом.
— Нету?
Глаза солдата продолжали лукаво улыбаться.
— А когда будет приходить?
— Не знаю.
— Не зна-ю, — промычал немец и перевел взгляд на окна. — Там нет?
— Нет, — повторил старик.
Улыбка по-прежнему не сходила с губ солдата.
— Тогда я стану играть для вас. А? — Немец сделал жест.
Старик пожал плечами.
— Карашо?
— Хорошо, — буркнул старик.
Немец поправил ремень, на котором висел автомат, поглядел вверх, куда-то под карниз дома, и, облизнув губы, снова впился ими в плоскую металлическую коробочку. Зазвучал тоскливый разливистый мотивчик.
— Вы есть мой публика, — произнес солдат, сделав паузу.
Посещение его обошлось старикам в два десятка яиц и кринку сметаны.
— Вы слушаль, я играль… Вы должен платить, — коверкал он русские слова и продолжал нахально скалиться на старика.
Появление солдата в проулке, разливистые звуки губной гармошки, доносившиеся сюда, в горницу, разом подняли Ивакина с постели. Опустив ноги на пол, напрягая слух, он старался понять, что происходит на улице, вошел немец в избу или остался стоять в проулке. Если вошел, то может заинтересоваться и горницей. Тогда ему, Ивакину, следует приготовиться. В чем состояло это приготовление — он и понятия не имел. Вот звуки гармошки смолкли, хлопнула вдруг дверь. Ивакина охватила оторопь, но шагов в сенях не было слышно, и он успокоился.
«Надо уходить. Надо немедленно уходить», — подумал Ивакин. Нельзя допустить, чтобы теперь, когда нога пошла на поправку, его схватили. В голове Ивакина крепко засела эта мысль: «Нельзя…» Но куда уходить, как это сделать — он не знал. И его бесила эта беспомощность. Вот придет немецкий солдат сейчас и возьмет его, как котенка. «И гранаты останутся без пользы. Только людей подведу».
Подвести людей — это было для Ивакина самым страшным. Когда говорили о ком-то «он подвел людей», то у Ивакина возникало чувство, похожее на брезгливость. И всю свою короткую жизнь он старался делать так, чтобы люди его уважали. В школьном комсомольском комитете никогда не отказывался от поручений и стремился быть первым в учебе. На военной службе командиры ставили его в пример, говоря при этом: «Исполнительный, дисциплинированный боец». Боец… Ивакин любил это слово и только удивлялся, что его соединяют с другими — «исполнительный», «дисциплинированный»… Да какой же это боец, если он недисциплинированный. Все, что Ивакин делал в школе, на военной службе, когда еще и войны не было, он считал, должно приносить пользу людям — если не теперь, когда он молод, то в будущем. Вот почему подвести человека означало для Ивакина что-то ужасно постыдное. Правда, сейчас, когда он думал об этом, лежа в горнице, то ему казалось сущим пустяком все то, что он вкладывал в смысл этих слов. Подвел человека — значит очень огорчил его, не выполнил, что обещал, что должен был выполнить. Но жизнь-то человека не пострадала от этого. А вот теперь смысл этих слов приобрел зловещий оттенок: подвести людей — значит подвергнуть их смертельной опасности.