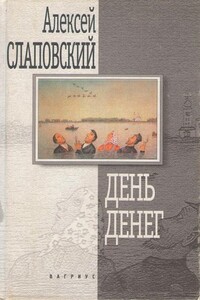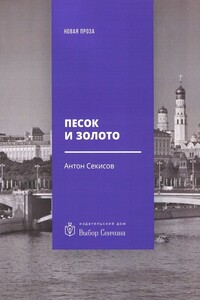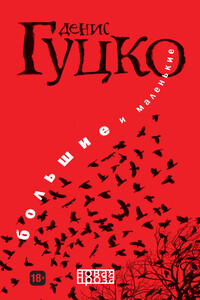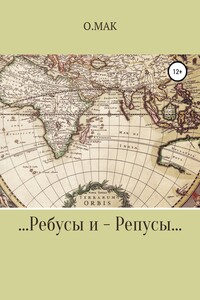Жмых | страница 72
Итак, в моём доме поселилась чета Эвертов — так их представил Антонио. На Ромео и Джульетту эти мужчина и женщина походили слабо, хотя по их взаимоотношениям было видно, что они близки. Она — угрюмая, угловатая, жалась по углам в своём нескладно скроенном старомодном платье; когда я увидела эту простушку, у меня отлегло от сердца — вряд ли Антонио позарится на такое убожество. Он — поминутно вытирая со лба крупные капли пота, постоянно и не к месту острил и сам же смеялся над своими шутками. «Вы из Германии?» — поинтересовалась я, услышав грубоватый выговор: в последнее время моими деловыми партнёрами по большей части являлись немцы, и речь их была мне очень хорошо знакома. «Из Европы», — уклончиво ответил Эверт и тут же переменил тему разговора…
Целыми днями «молодожёны» где-то пропадали, иногда — брали с собой Антонио, возвращались далеко за полночь: порой — все вместе, порой — поодиночке. Со мной они, похоже, избегали всяческого общения. Бывало, правда, мужчина ронял несколько шуточек, но делал это как-то машинально, неэффектно, без желания блеснуть чувством юмора и произвести впечатление. Она же со мной только здоровалась. Иногда к ним приходили какие-то гости, что было весьма странно для людей, опасающихся привлечь излишнее внимание к своей персоне. Подобно другим приятелям Антонио, Эверты не устраивали шумных посиделок: когда в их комнату торопливо шмыгал кто-нибудь из их знакомых, двери тут же запирались на задвижку, а оттуда уже не вырывалось ни звука. Чем они там занимались, один бог знает. Даже вездесущий Гуга не мог сообщить ничего вразумительного: вроде бы читают какую-то книгу, но что это за книга… Чудная парочка, что тут скажешь.
С присутствием в доме таинственных постояльцев Антонио изменился до неузнаваемости. Раньше он пугал своим безрассудством, но теперь вся его бесшабашная удаль выветрилась. Он стал уравновешенным, осторожным, собранным. Если ещё совсем недавно болтал без умолку, то теперь говорил, будто экономя слова: мало, кратко, точно рассчитанными, продуманными фразами. «Гадёныш точно во что-то вляпался», — глядя на него, процедил как-то раз Отец Гуга. В душе я разделила эти опасения… Однако, если в поведении Антонио появилась несвойственная ему сдержанность, то картины, напротив, поражали своей категоричностью и бескомпромиссностью: он словно не кистью писал, а острым мачете, а вместо красок использовал кровь и порох. Я подолгу вглядывалась в созданные им образы: резкие, будто оставленные плетью разящей, штрихи, мазки — как рваные раны. С каждого холста исходил душераздирающий крик. Становилось не по себе от увиденного.