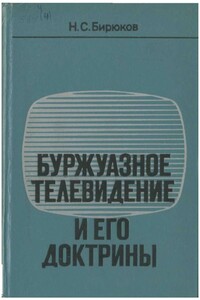Газета Завтра 1266 (09 2018) | страница 20
Но этому предшествовал ряд событий. Это странствование по русским деревням и городкам, это собирание народных песен — мы с друзьями уходили каждый в свою сторону, собирали песни, а потом возвращались домой, в нашу квартиру в Текстильщиках, ставили на стол бутылку водки и тарелку огурцов, садились вечером и пели песни. Пели их до утра. Пели народные песни — песни XVI века, языческие песни, магические, хлыстовские песни, которые вообще не значились в фольклорных справочниках, даже у Афанасьева. И когда утром за окнами начинало светлеть, бутылка, которую мы ставили, оставалась практически полной. Нам не нужна была водка, мы были пьяны от этих божественных песен, мы переживали в хоровом пении катарсис. Тот, кто не пел в хоровом пении русские народные песни, многое потерял, как он, может быть, потерял ощущение первой любви. И это пение песен создавало во мне восхитительное напряжение, стремление ввысь, в эмпирей, к чему-то иррациональному, божественному. А скитаясь по деревням, я много летал на маленьких самолетиках, на двукрылых бипланах. Приезжаю я в Нижний Новгород на поезде, надо добраться в район, и я сажусь на самолет. А тогда этих самолетиков было очень много, можно было добраться до любого центра. И я на этих самолетиках летал и видел землю. Я видел поля — вот желтое поле, а вот пашня, черное поле, а вот вьется дорога, а вот стоят стога, а вот пасется корова, а вот зеленый луг, а на нем несколько лошадей, а вот деревня, а вот дым летит к самолету. И это зрелище земли сверху вниз меня тоже поразило, и я свои рисунки рисовал сверху вниз — все, что я вижу с неба на земле. В свое время Брейгель изобрел такой ракурс чуть сверху на все свои картины, на своих охотников или на детей, играющих в зимние игры. А потом этому, конечно, способствовало рождение детей. Эти маленькие дети, которые возникли, несли в себе огромную энергию, энергию родовую, генетическую и свою собственную. Это тоже наполняло меня этими состояниями. Одним словом, меня постоянно как бутон изнутри распирало, я должен был раскрыться. И книги для меня оказалось мало. И я раскрылся в этих рисунках. Было такое ощущение, что ко мне подлетел какой-то ангел, коснулся моих глаз, коснулся моих рук и заставил меня рисовать. Я рисовал непрерывно в течение полутора лет, нарисовал массу этих рисунков, этих лубков. А мой двоюродный дед, Николай Титович, Царствие ему Небесное, он был близок к миру искусств. И он был художником, он понимал законы художества. И глядя на мои рисунки, он пожимал плечами — они его абсолютно не устраивали, так как не вписывались в законы художества ни цветами, ни формой, ни пластикой. А потом, увидев, что я это не оставляю, он сказал: "Ну что ж, если из него это прет, то пусть он это и рисует". Помню такое снисходительное, несколько ворчливое, стариковское позволение мне рисовать эти рисунки. И я их рисовал. Прошло примерно полтора года. А потом ангел, который вложил мне в руки кисть, взял и улетел. И я потерял всякий интерес к рисованию. Так и остался лист бумаги с незаконченным рисунком, наверное, остался стакан с водой, наполненной каким-то красным цветом, кисть с засохшей акварелью где-то лежит. Я больше ни разу в жизни не прикасался к рисункам. Это было чудо, это было вторжение в мою жизнь какого-то начала, которое и породило эти лубки. А потом это начало исчезло, пропало. Видимо, я переключился на более жестокие формы бытия — начались мои войны, начались мои странствия, связанные с цивилизацией — это не побуждало меня рисовать, это побуждало меня писать.