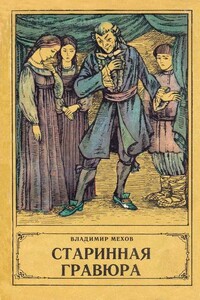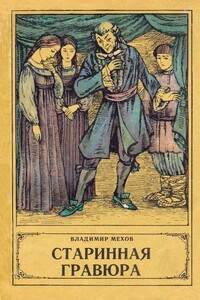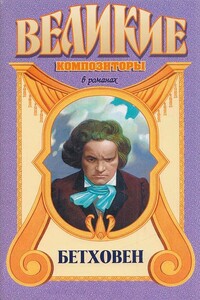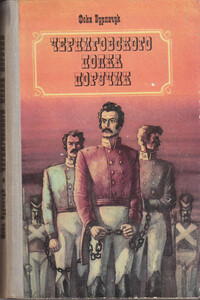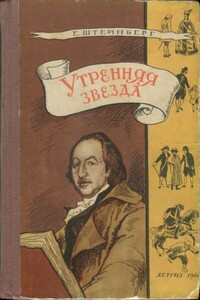Старинная гравюра | страница 71
— Это есть все неправда. Мариадини не делает замечаний на свой сюзерен. Мариадини так и сказал маледетто[3] камердинер!
Он кричит откуда-то сзади, Мариадини. То ли не может пробраться к Зоричу сквозь толпу, то ли просто считает, что лучше находиться поодаль.
На Зорича смотреть и вправду страшновато. Круглые, близко поставленные глаза белеют. Крылья большого носа шевелятся, ходят вверх-вниз.
Это ведь один из самых излюбленных в его хоромах розыгрышей: пустить отменно наряженных и причесанных, в сиянии драгоценностей, в аромате дорогих духов, в обмане свободного французского произношения крепостных дансерок к гостям, — и чтоб кто-нибудь из них воспылал, распустил хвост, как павлин. То же самое, примерно, что творил он, бывало, с электрической машиной в училище — когда угощал незадачливого ротозея током. Так что же — собственный холуй эту потеху будет ему портить?!
В гневе захлебывается Семен Гаврилович, переходит на зловещий полушепот:
— Вы… монсиньор… кадушка с макаронами… — недобрый это знак, когда Зорич обращается к слуге на «вы». — Сей момент гайдуки отведут вас на конюшню… и при всем вашем почтенном иноземном подданстве… как спустят с ваших толстых ляжек штаны, как…
И, пораженный, останавливается. Ибо таким, как сейчас, никогда Живокини не видел. Со сжатыми у горла кулаками. С закушенной нижней губой. Со слезами в печальных навыкате глазах, однако слезами не жалкими — гневными. Видно было — ни гайдуки, ни конюшня ему сейчас не угроза. Видно было — едва сдерживает себя кроткий, боязливый обычно шут-итальянец, чтобы не дать хозяину пощечины.
Лицо Зорича мрачнеет, чернеет… И вдруг — точно освещает его молния:
— Це-це, да он же…
Удивленный, еще не совсем уверенный, что так оно и есть, Зорич спрашивает — не сразу скажешь у кого, у камердинера или у себя:
— Тебе что — эта девка нравится? Пелагея Азаревичева? Аморе?[4]
И по тому, как вянет, как на глазах обмякает Живокини, понимает — точно, угадал! И тут уже становится ему опять весело, тут уже хлопает он в ладоши, предвкушая новую, вот уж вправду нежданную потеху.
— Господа, господа! Силенциум[5], господа!.. Я считал вместе с вами до сей поры, что имею в своем доме всего лишь слугу своего, Игнатия Живокини, и всего лишь балетчицу свою, Пелагею Азаревичеву. Но я ошибался, господа. И вы тоже. — Зорич прикладывает руку к сердцу, эффектно ее выбрасывает, с пафосом объявляет: — Пред вами рыцарь и его дама, Ромео и Юлия, Дидона и Эней!