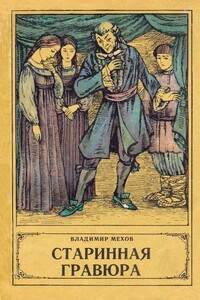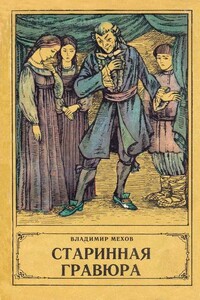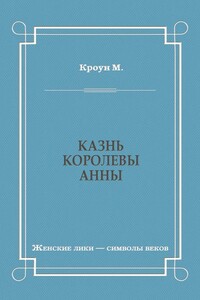Старинная гравюра | страница 27
«…Что пожаловался Грегори-кукуец, будто комедиантов его самых лучших изувечили, то это напраслина. Злодеям слободским наказание учинять по службе казенной слуга твоей милости обязан. А заплечному мастеру Алфимке говорилось, чтобы хлестал он комедиантов с остережением. Понеже исполнял бы работу без остережения, то… сам понимаешь, господин мой!.. А что харкают они сейчас кровью и что лекарь сказал, мол, на комедийское умельство никогда более пригодны не будут, то и самому магистру, окольничий, укажи, чтобы голодом комедиантов не морил и с поденного корма, царевой казной им отпущенного, в карман свой басурманский не клал. Ибо лекарь сказал, что от того они нутром и ослабли… А были бы нутром неослабшие, то Алфимкину работу бы выдержали…
К Грегору я ездил и говорил то же самое. И он меня не бранил и ответил, что все равно на великий пост потех у государя не бывает. Пост сейчас в самом начале, и до мясоеда успеет он, магистр, комедиантов научить еще и лутших. А отроков со слободы смогу на это прислать ему, сколько пожелает.
О беглом же Родьке известий не имею. Отца его допрашивал, ничего не знает и он…
Висельник тот, Родька, от комедиантского своего звания уму непостижимо как в нети кидается, а вот портняжка поротый Куземка, который Товию молодого показывал, — сильно плачет в скорби нынче великой, что к комедиантству более пригоден не будет…
На благодетеля и заступника милость твою полагаюсь как всегда.
Данилка Мордасов».
ПОКЛОН СПИРИДОНУ СОБОЛЮ
Встреча первая
Наше знакомство с человеком, о котором хочу рассказать, пускай произойдет в Киеве.
«Матерью городов русских» назвали наши пращуры Киев. В те времена, куда мы направляемся, он в границы Русского государства не входит, которое столетье подвластен то Литве, то Польше. Но сердцами они все равно друг к другу тянутся, Москва и Киев. И толпами бредут сюда богомольцы из-под самого Белого моря, из Великого Новгорода — поклониться святыням на берегу Днепра. И едут из Киева в Москву ученые монахи — толмачами да учителями. И мужей, заслуживших уважение в Киеве, почитают и там, где по-волжски окают, и там, где по-немански чекают.
Трех таких почтенных, именитых жителей Киева вижу вечером в лето одна тысяча шестьсот двадцать девятое за нелегким разговором.
В поношенной шапочке-скуфейке и выцветшем подряснике, точно не митрополит он, не первый в округе святитель, а горемыка-дьячок захудалой часовенки, зябко поеживается в кресле Иов Борецкий. Среди людей православной веры в те времена он, наверное, из самых сведущих. На столах и полках в его доме в роскошных окладах с серебряными пряжками рукописные и печатные книги. Древняя латинская и греческая премудрость, новейшее французское, немецкое, польское, валашское письмо. На всех этих языках Иов говорит, как на родном, и на все эти языки переводилось написанное им. Не из гордыни, не по причине того, что низко ставит посетителей, принимает он гостей в домашнем. С недавних пор Иову нездоровится. Рдеет на широком блюде принесенный служкой инжир. В чашечках стынет заморское чудо — чай. А митрополиту ничто не мило. Исхудалый, с красными пятнами на впалых щеках, с желто-белой поредевшей бородой, он греет руки о чашечку, и коли кто из собеседников повышает голос, умоляюще глядит на него потухшими глазами.