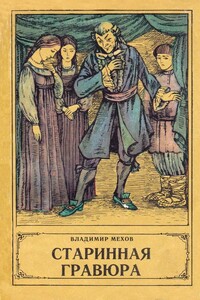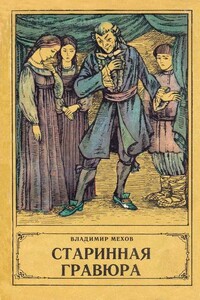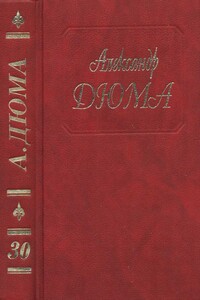Еретик | страница 2
О боязнь расстаться с жизнью на эшафоте или в огне! Это она леденит нашу кровь, когда мы собираемся нечто сказать наперекор испокон веков заведенному. Я убежден: славный грек Протагор недоговаривал, хитрил, когда диктовал рабу-писцу, будто не знает о богах ни того, что они есть, ни того, что их нет; он знал определенно — нет! Я убежден: италиец Галилей не отрекся бы от слов своих, что земля вертится, — пламя аутодафе[2] обжигало ему лицо, когда он отрекался. Да зачем тревожить тени великих — разве меня самого не заставил подлый страх преклонить перед королем колени и написать прошение о помиловании?
Напрасно. Прошение не помогло. Я коснулся неприкосновенного и вот стою перед плахой, а палач нетерпеливо ждет. Сейчас он приступит. Сперва я в собственной руке сожгу те пятнадцать тетрадей — так написано в приговоре, — потом палач оголит мне шею, и…
Люди, вас собралась вся Варшава. Какое Варшава — вся Речь Посполитая. Вон вижу я учеников из Бреста, однокашников из Вильни, знакомых из Городни. Вы все глядите на меня, но с высоты эшафота не видно, что в ваших глазах — лишь ужас и презрение или и боль сочувствия? Я был законником-судьею и, случалось, наказывал вас за распри и обман. Я был учителем и порой строго обходился с вашими детьми. Однако был я таким из любви к вам. И когда записывал сокровенное в те пятнадцать тетрадей, также желал вам добра. Человек, а не выдуманный обманщиками бог — властелин вселенной. Слышите это, люди? Я кладу голову на плаху. Я склоняю ее не перед химерой-богом — перед чело…
Ох, проклятый палач! До чего же у тебя цепкая, как свинцом налитая, рука!..
Тряхани, тряхани его, палач! А то, вишь, зыркает — можно подумать, не на эшафоте стоит, а за судейским столом. Можно подумать, не его сейчас укоротят на голову, а он будет казнить и миловать. Хватит, покрасовался за судейскими столами да кафедрами. Отговорил свои красивые речи…
Меня, случается, спрашивают, за что я его так возненавидел? Я, браславский стольник[3] Ян Казимир Бржоска, некогда ему приятель, свой у него в доме. Кто напрямую спрашивает, вслух, кто молча, одними глазами. Я отвечаю издевательски, со шпилькой. Вы о чем, мол, почтенный пан, — о том, почему я на Лыщинского написал? А вы, ваша милость, как себя бы держали, если бы столкнулись с богоотступничеством? Утаили бы? Стали бы еретику сообщником?.. Словно сдувает любопытного господина. Потом встречаемся, так глупые вопросы уже не задает — угодливой собачкой крутится вокруг…