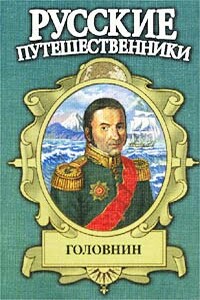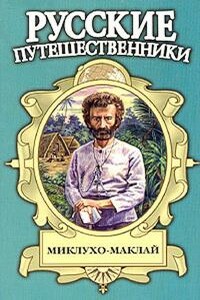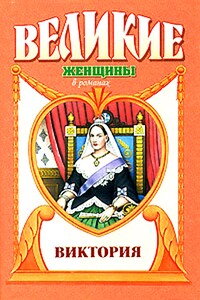Семь песен русского чужеземца. Афанасий Никитин | страница 10
Присев на лавку подле больного, Офонас хрипло запевает старую потешную прибаутку:
Настя обмирает, припав к стене, и внезапно просит мужа:
— Ты... Ты своё спой ему...
Никогда прежде не любливала она, когда Офонас принимался петь-выборматывать свои эти слова — то ли песни, то ли какие плачи... Сейчас он взглядывает на жену виновно, затем обхватывает голову ладонями... Но нет, не приходит своё... И он припоминает давнее, ещё от матери слыханное:
Лихорадочно громким тонковатым голосом, больным русским тенором запевает Офонас давнее, бабкино ещё заклятие. Настя вторит отчаянно и срываясь на вскриках своих слёзных, высоких:
— Тошно, мама! — стонет Ондрюша, мечась по жёсткой постели. — Тятя!.. Тошно! Ох, тошнёхонько...
Горячка жгла Ондрюшу. Когда сумерки спустились, когда в небе сером угас последний дневной луч и на земле стемнело, горячка совсем уже сожгла мальчика и бросила его в холодные объятия бледной гостьи, смерти...
И вот — лежит Ондрюша на столе, в переднем углу; светлые волосы его гладко причёсаны, он наряжен в белую рубашку. Образок-складенец стоит у него в головах; восковые свечи горят, дорогие, горят и озаряют спокойное милое личико. Тонкие исхудалые ручонки легко покоятся на впалой груди. Тихая безмятежная улыбка не сходит с побледневших губ.
— Светик ты мой! Радость моя ненаглядная! — причитает Настя, обливаясь слезами.
Отец поцеловал холодный лоб сына, глазки, закрытые навеки, те самые глазки, что смотрели на него так ласково...
Офонас молча стоит у покойника в ногах и смотрит на бледное лицо, не отводя взора, не шевелясь. «Успокоился, успокоился голубчик наш!» — слышит Офонас причитания жены. Без стона, без вздоха тяжело опускается Офонас на лавку и замирает...
Он потерял Ондрюшу, никогда его больше не найдёт он, хотя бы весь мир прошёл из конца в конец, никогда не услышит его голоса, никогда маленькие ручонки не обовьются вокруг загорелой отцовой шеи. Это сознание тёмною тучей налегло на Офонаса, приклонило низко его голову. Один-то радостный луч только и был у него, и тот погас. Глухой ропот и грешные жалобы поднялись в душе Офонаса. Потом ещё явилось раскаяние: так ли он заботился о сыне, как бы следовало? Раскаяние мучительно охватило Офонаса. Оно, без огня, жгло несчастного отца. Быть может, один Ондрюша, один он, добрый, любил его искренно, чистосердечно. Теперь только почувствовал Офонас, какая пустота пала кругом него со смертью сына; теперь только сознал он ясно, как сильно был привязан к Ондрюше...