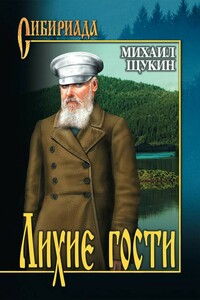Деревенский бунт | страница 97
«…В избе уже пошёл стукаток каблуков, крики «и-и-их!», где сразу же по клочкам растерялась начатая было «Рябинушка», зато теперь чаще слышалась гармошка, набравшая удали, как-то незаметно заигравшая «Цыганочку».
чуть не рёвом проревел Хитрый Митрий, развалив меха своей индюшьи раскрашенной переводными картинками, старенькой, но ещё ладной хромки. Когда приспели баяны и даже гитары, редко вынимал Митрий на божий свет свою распотеху, задвинув её в тёмный, обросший седыми тенетами угол кладовки, но коль уж собралось немало людей пожилых, и гармошка пришлась в пору.
Тут уж гармошка – это вам не треньди-бреньди-балалайка – закатилась от смеха; захлебнулась, родимая, сплошным и радостным перебором, из которого, казалось, ей сроду не выбраться, но вот Хитрый Митрий, жарко светясь красным, похожим на переспелый помидор, круглым лицом, отрывисто, с подскоком вывел хлёсткую частушку, похоже, своеручно переделанную из старой, поменяв Подгорную на улицу Озёрную, где застольники и обитали:
Про юбки и сдуревших парней Хитрый Митрий пропел не шибко внятно, да ещё и приглушил слова лихими переборами, но все учуяли соромщину, кто хохотнул, кто кисло сморщился; кто шутливо погрозил вилкой, но короткие землистые пальцы Хитрого Митрия уже бросились вдоль пуговок, гармошка по-медвежьи рявкнула, рванула, словно забилась в родимчике, и гулко застучали каблуки:
Ох, сколь под гармошечьи страдания девьих слёз лито: «Если забудет, если разлюбит, если другую мил приголубит, я отомстить ему поклянуся, в речке глубокой я утоплюся…» а сколь парни набедовались от любови безответной, сколь гармошек изорвали: «Зиму лютую не спал, по матанечке страдал. Я бы замуж её взял, говорит, что ростом мал…» А сколь про голосистую гармонь, отраду и отраву песен свито, сколь виршей сплетено!
Вообразилось, словно явилось из вещего сна, как восходит луна из ночного, речного омута, увиделось в желтоватом и синеватом покойничьем свете, будто сельское моё семейство слетелось в гнездовище, на отчее пепелище и уселось в горнице за круглым столом. По случаю гостей мать смела пыль с розового абажура, подвешенного на потолочную матицу, вишнёвой скатертью с кистями утаила столешню, залитую чернилами, истерзанную, изрезанную. Но недолго горница красовалась вишнёвой скатертью; мать одумалась, смахнула скатерть и, несмотря на уговоры дочерей, спрятала в комод. На столешню привычно легла линялая клеёнка, где ромашки спрятались, завяли лютики; впрочем, некогда цветастая, ныне угасшая клеёнка вскоре спряталась под закусками и напитками: окунёвая жарёха, сало, холодец, капуста и картошка, а на сельскую снедь нетерпеливо, свысока косились белоголовые бутылки. За круглый стол лишь мужики вошли – отец, довоенные братья Гриша, Ваня, Коля, Саша, зять Коля и я, в лето семейного свидания ввинтивший в лацкан пиджака «поплавок», говорящий, что я окончил университет. За наращённый узенький столик уселись мать, сестры Валя, Анна, Вика и две молодухи.