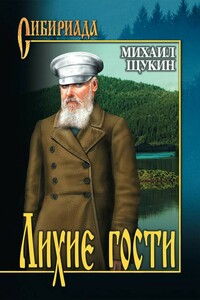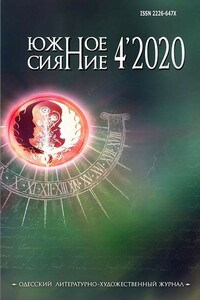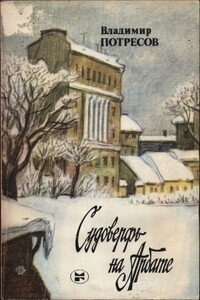Деревенский бунт | страница 51
В своё время по ней, горемычной, сплавляли лес, и от закаменелых топляков на дне уже сбился деревянный пол. А потом химический завод навадился сливать в омут фиолетовые помои, и рыба, что в вершине реки метала икру по весне, а летом вольно паслась, ушла в Байкал и больше не возвращалась.
С дохлого угла волочились тучи, и хотя солнце давно уж село, небо, добела раскалённое за день, ещё пыхало жаром. Чуть живой, мокрый от пота, так изъеденный комарами и мошкой, что на опухшем, волдыристом лице по-тунгусски светились лишь злые щели, Иван доплёлся наконец до ветхой, без окон и дверей, безбожно исписанной, изрезанной зимовейки. Пол, некогда сколоченный из листвяничных плах домовитым рыбаком ли, сенокосчиком, лихие шатуны выдрали и спалили в кострах, что разводили прямо в зимовье. Возле стылого пепелища валялись консервные банки, бутылки, рваные пакеты и полуистлевшее от сырости, дозелена заплесневелое тряпьё. Чудом уцелели нары и столешня, изрезанная бродягами: «Года летят, а счастья нету!», «Не забуду мать родную и отца!»; а на стёсанных венцах начертанные углём зловеще красовались уркаганьи[27] послания: «Валет, фуфлыжник, хва беса гнать, лепить горбатого, гони башли! А то, фраерок, рога посшибаю!..» Фраерок ответил венцом ниже: «Тише, хряк, на бритву лягишь!..» Иван встревожился, почитав варначью[28] переписку, но положился на волю Божию: Бог не выдаст, хряк не съест…
Разведя подле зимовейки вялый костерок, наспех, без обычной услады почаевал, затем потрусил на щелястые нары сухой ковыль и, забравшись в спальник, начал разбирать более мирные писаницы про то, что здесь ели, пили, веселились Таня, Саня, а дальше – не то любовь, не то собачья сбеглишь. Тёплым илом стал обволакивать душный и липкий сон. Но меж сном и явью, лёжа напротив незавешанного оконного проёма, он ещё глядел соловыми глазами на темнеющий ивняк, на серебристую речную течь, и в память без всякого зова и мана полезла речная нежить. Откреститься бы, да вот бединушка, не обрёл ещё такой благой привычки.
Поющий и плачущий о былом крестьянском житье-бытье, слитом с окрестными лесами и полями, с реками, озёрами, писатель Иван Краснобаев вьюжными зимними вечерами до одури начитался бывальщин про нежить домовую, речную, таёжную, в которую не верил и сызмала, не давал веры и теперь, когда уж борода закуржавела покровским инеем. Но сами бывальщины про окаянных и лукавых любил, грешным делом, послушать, почитать, вплести в простушки-повестушки, в сказы и рассказы, – так сладостно обмирало сердце от жути таинственных чар.