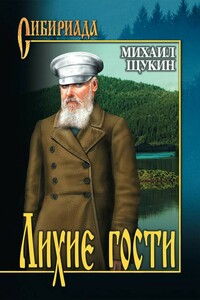Деревенский бунт | страница 112
На Руси кудеса – дыбом волоса: на окровавленных каменьях, напялив маскарадные хари, кобели и сучки по-пёсьи лают и соромные песни поют. А то и на церковной паперти собачья сбеглишь… Одолели бесы святое место… Выросший подле богомольного деда Прокопа, а когда богомольцам дали волю и сам облаченный во Христа и даже в храме Божием золотым венцом повенчанный с дояркой Нюшей, Еремей с горечью выписал из Божественной книги: «…И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своём. Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями…»
Попустил Господь: морок печали и скорби укрыл чёрными тучами васильковое сельское небо, и счернели, обуглились солноликие подсолнухи… О ту злокозненную пору палёное пойло косило деревенских мужиков, словно курносая со стальной косой на плече, и деревня Шабарша обезлюдела, а могилки зловеще разрослись в отрогах степного увала. Скотник Еремей и раньше, не сказать, что запивался, но пил редко да метко: ежели шлея попала под хвост, мог за присест литр осадить, а потом люто хворал, яро проклинал гулянку и зарекался. Ну да зарекалась блудливая имануха[56] в чужой огород не шастать…
И вдруг на исходе лет Еремей попрощался с зелёным змиищем, и, – чудно для деревенского скотника, – привадился к чтению, отчего бабы сердобольно вздыхали, а мужики, косясь на книгочея, крутили пальцем у виска: мол, у Ерёмы не все дома, в тайгу ушли. А Еремей, – на всякий роток не накинешь платок, – плевал на суды и пересуды с пожарной каланчи; и, бывало, выкинет навоз из-под коров, отложит совковую лопату, из внутреннего кармана телогрейки явит на белый свет Библию и читает. Книжечку с ладонь, похожую на резной ковчежец, книгочей разорился и купил в свечной лавке Ильинского храма, куда за пять вёрст похаживал на Всенощное бдение и заутреню.
Почитывал Еремей Святое Писание, а безбожные книги, кои, помнится, в школе проходили, в руки не брал, чурался, страшился искуса, как и царь Давид: «Блажeн мyж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седaлищи губителей не седе… но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится дeнь и нощь…»
На закате лет забывалось ближнее, но чаще и чище, отраднее виделось дальнее, или воображалось, ибо о ту пору ещё пешком бродил под столом. Злым и тоскливым, волчьим воем выла крещенская метель, грызла венцы, зелёными зрачками пучилась в заросшие куржаком окошки, ведьмой плакала в трубе, но благодатью, покоем дышала жаркая русская печь. Лютые крещенские морозы загоняли домочадцев в избу: отроче младо полёживали на печи, а мать Ерёмы, пряха смолоду, сидя на изножье пряслицы, тянула нить из кудели, словно из белёсого облака, мотала нить на юркое веретено; отец, вековечный пастух и скотник, посиживая на низкой лавочке, под ласковым печным боком, чинил хомуты и сбруи и, до слёз умиляясь, слушал, как набожный дед Прокоп, привязав к ушам круглые очёчки, придвинув мерцающий жирник-светильник, степенно читал Четьи-минеи