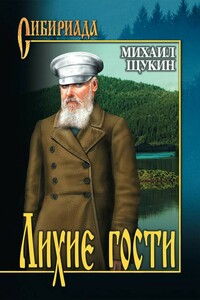Деревенский бунт | страница 108
Жаркая речь Аполинария Серафимыча сморила публику; в зале зашумели, зашаркали ногами, чтоб заглушить краснопевца; и тогда гармонист голосисто зачитал из Есенина:
А уж после стиха гармонист, ка-ак врезал попурри по мотивам русских песен, да ка-ак пошёл плясать с гармошкой, пускаясь вприсядку, что и народ завеселел, зашумел… Похоже, иные мужики плясали сидя, топоча и шаркая башмаками… И разыгрался, расплясался Аполинарий Серафимыч без угомона и укорота.
Я слышал, как режиссёр скрипел зубами, злобно шептал мне на ухо:
– Что творит, а!.. Что творит!.. Без ножа режет… Одеяло же тянет на себя… Ну, Толя, удружи-ил… – Режиссёр покосился на лепной балкон и в ужасе узрел: губернатор и свита на ногах, вроде отчалить собрались, утомлённые гармонистом.
Мне бы, словно козе пакостливой, покаянно опустить глаза долу, а я разлыбился, как сайка на прилавке: мне дед привиделся, царствие ему небесное…
Лазарь Ананьевич Андриевский, дед по материнскому крылу, прожил сто шесть лет – и я, народившись в половине прошлого века, до шести лет вертелся подле деда Лазаря, когда мать с оказией посылала меня в село Погромна на откорм; там древний старик обитал у материной сестры, Валентины Лазаревны. В былые лета я поведал о том, что я запомнил деда сказочным ощущением, словно подслушал дремучую бывальщину, осевшую на донышке памяти; и в ощущения вплелись поминания родичей, и ныне, продираясь сквозь туманную наволочь века, с тоской и любовью вижу, как дед Лазарь, облысевший и обмелевший, словно речка Погромка в сушь, сутулится возле самовара, спиной к окну, и усталое солнце озаряет старика тихим сиянием, и дедово лицо, опущенное реденькой, изжелта-белой сухой бородой купается в задумчивом предзакатном свете, тает, и лишь оттопыренные уши по-младенчески нежно розовеют. Лет до ста дед Лазарь подсоблял вдовым молодухам, вдовым дочерям – возил дрова из леса, но ближе к ста шести годам впал в детство, и мы стали годками, что старый, то и малый; бранились за столом до слёз, не поделив картоху, варённую в мундире, которую тётя Валя высыпала из парящей чугунки на некрашеную, но дожелта выскобленную столешницу. «Один задериха, другой неспустиха», – умилённо посмеиваясь, качала головой тётя Валя.
Братья-большаки поминали: на Троицу родня гуляла в ограде, озеленённой троицкими кумушками-берёзками, и когда в застолье оживала гармошка, хохотала и рыдала над «Камаринским мужиком», дед Лазарь пускался в пляс: постукивал ичижонками