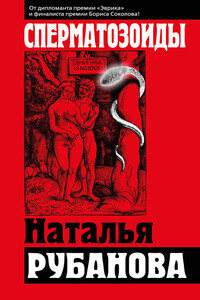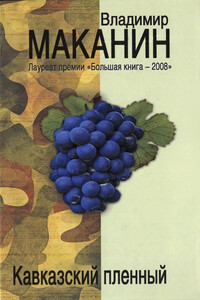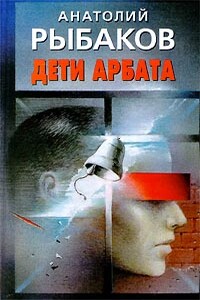Тяжелый песок | страница 94
Но дедушка ни в чем не признавался, доказательств у меня не было, и оставалось молчать.
Итак, ждем суда месяц, другой, скоро год, и вдруг как снег на голову: суд будет через неделю и не в Чернигове, а здесь, у нас, и не просто суд, а показательный процесс в клубе, и не наш народный суд, а выездная сессия областного суда. В общем, на широкую ногу, и результатов надо ждать самых скверных.
Клуб был набит до отказа, яблоку негде упасть. Процесс длился три дня. Эти три дня были самыми черными днями моей жизни. На фронте я видел смерть лицом к лицу, но видеть на скамье подсудимых отца, кристально честного человека, ни в чем не повинного, – что может быть ужаснее? За этот год, из них восемь месяцев тюрьмы в ожидании суда, отец постарел лет на десять, осунулся, похудел, сгорбился. Он не умел хитрить, выкручиваться, отвечал не то, что нужно, и не так, как нужно. И у него опять, черт побери, извините меня, но именно черт побери, было виноватое лицо, будто он действительно в чем-то виноват. Только хорошо знавшие папу люди понимали и знали, что виноватое выражение у него от смущения, от деликатности, от того, что именно из-за него заварилась такая каша, из-за него здесь собралось столько народа и, главное, что он должен возражать судье и прокурору, говорившим полную чепуху, обнаружившим вопиющее невежество в нашем производстве, и отцу было неудобно поправлять их, он не любил и не умел ставить других в смешное положение.
Между прочим, судью – фамилия его была Шейдлин – я знал еще по двадцатым годам. Был у нас такой парень, Семка Шейдлин, хохмач, балагур, в общем, трепач, но безвредный, со всеми ладил, со всеми дружил, особенно с моим братом Левой, когда тот был секретарем укома комсомола, состоял, так сказать, при Леве, во всем ему поддакивал, умел вставить острое словцо – Леве это нравилось, и он ему покровительствовал. Семка околачивался на мебельной фабрике, не помню, кем работал, скорее всего зарабатывал производственный стаж, тем более отец его был бухгалтер, то есть «служащий». Ничем, кроме своего балагурства, Семка не выделялся, разве еще тем, что парень был очень неспортивный, едва сдал нормы ГТО, этакий толстогубый увалень, и когда мы играли в футбол, сидел на краю поля и отпускал в наш адрес разные шуточки. Впрочем, он скоро уехал учиться, окончил институт совправа, работал в областном суде, к нам не приезжал, тем более родители его куда-то переехали, и вот через десять лет пожалуйста, явился – председатель выездной сессии областного суда, такой же низенький, толстогубый, в гимнастерке с широким ремнем, бриджах и сапогах; пополнел, полысел, глаза выпученные. Не знаю, остался ли он таким же хохмачом и балагуром, каким был раньше, но, как вы понимаете, на суде он не хохмил, не балагурил, сидел хмурый, желчный, отчужденный, будто он здесь впервые, нет у него здесь ни родных, ни знакомых, и было ясно, что он всех засудит, в том числе и моего отца, отца своего бывшего друга и покровителя.