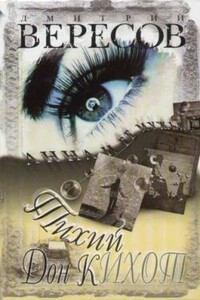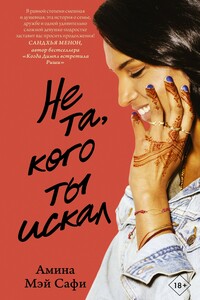Хозяин травы | страница 3
Изредка отец даже играл со мной. В солдатиков. «Ро-о-о-та, стройсь!» — гаркал он и вываливал из картонной коробки на стол зеленых оловянных солдатиков. Рота строилась и шла в наступление. «С левого фланга заходи. А-акру-жай!» — воспламенялся отец. «Трах-тах-тах!» — отзывался я. «Тиу-тиу-тиу!» — входил в раж отец. «Трах-тибидух», — соглашался я. «Эй, вояки, ужинать будете?» — вносила свою лепту в семейную идиллию мать. «Молчи, женщина, — сердился отец, — в бою не ужинают». Но мать ничего не понимала в военном деле и простодушно предлагала: «А вы поешьте, а потом довоюете». Этот сугубо гражданский подход так возмущал отца, что он разворачивал роту в сторону матери и страшным голосом выкрикивал: «По врагам Советской власти пли!» — «Пли!» — радостно солидаризировался я с ним, понимая, что имею редкую возможность отомстить матери за то, что она мешала мне в других играх. «А ну вас к лешему!» Мать беззлобно махала рукой и принималась за штопку носок.
Правда, наряду с положительным моментом, а именно возможностью безнаказанного обстрела матери, в военных игрищах, затеваемых отцом, был и момент неприятный. Мне вовсе не всегда хотелось орать и стрелять. Я был скорее созерцательным ребенком и мог, например, часами завороженно разглядывать цветочный узор на обоях — из мелких васильков и розочек, дивясь тайне их взаимопереплетения, столь тесного, что трудно было понять, где кончаются стебелек и листочки одного цветка и начинаются стебелек и листочки другого. Но поскольку игра в солдатики с ее неизменными «трах-тах-тах» и «пли», по всей видимости, мыслилась отцом как важный элемент воспитания настоящего мужчины, а мою склонность к созерцательности он рассматривал как «мерехлюндию», то бывали случаи, когда я был не столько приглашаем к игре, сколько принуждаем. Робкое «мне что-то не хочется» вызывало такой поток отцовского красноречия, — при этом мелькали выражения типа «девчонка», «размазня» и даже «если завтра война, если враг нападет», — что я предпочитал скорее претерпеть игру, нежели оказаться объектом отцовского презрения. Как я уже сказал, мой способ сопротивления заключался в покорности. Но это была покорность особого рода, позволявшая мне оставаться незримым и недосягаемым, всучив миру, и в первую очередь — отцу с матерью, вместо себя некий муляж, сотворенный с учетом их требований и ожиданий. Думаю, что если бы тогда я решился на открытое сопротивление, то был бы быстро обнаружен, извлечен на свет и сокрушен. А так я имел возможность отсидеться как бы в незримой нише, недоступной их воображению. И все же я нуждался в общении. И единственный, кто не внушал мне чувства опасности, был он, кудрявый и ярковолосый товарищ моих одиноких игр. Именно его привязанность ко мне, покорность любым моим затеям — от грубо дурацких до нежно утонченных — с неодолимой силой влекли меня к нему. Я улыбался — и он улыбался в ответ, я хмурился — и лицо его становилось хмурым, я агрессивно скалил зубы и гримасничал — и он покорно копировал мою мимику. В его способности к бесконечным преображениям было что-то завораживающее. Весной 1966 года мы переехали в дом на Университетском проспекте, где нашей семье дали две комнаты в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Третью комнату занимал пожилой одинокий железнодорожник, проводник поезда дальнего следования. Детей в нашем подъезде было много, и постепенно я наловчился играть с ними. И только с Шурочкой играть я не хотел. Впрочем, с ней не хотел играть никто.