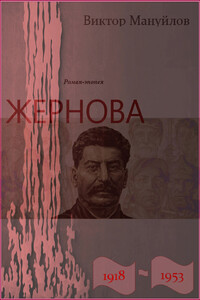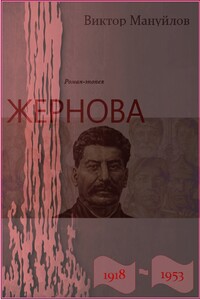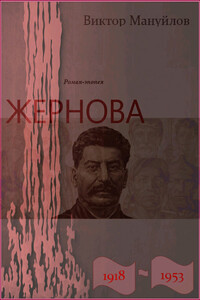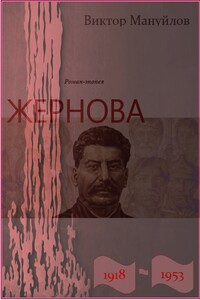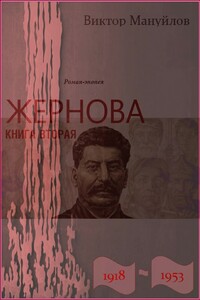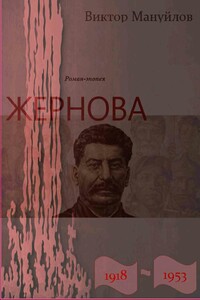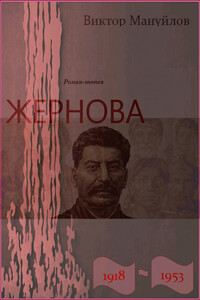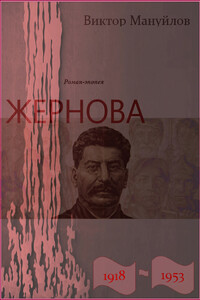Жернова. 1918–1953. Держава | страница 29
Кира сверкнула зелеными глазами, весело хохотнула:
— Ах, Иосиф! Меня вполне устраивает быть актрисой в самой жизни. Это даже интереснее, чем на сцене. Здесь неизмеримо выше острота ощущений. Если на сцене тебя могут освистать… впрочем, сейчас это не принято, — поправилась она. — Ну, похлопают меньше, или вообще не станут хлопать, то в жизни за плохо исполненную роль можно поплатиться жизнью. Разве я не права? Ведь ты тоже не идешь почему-то в артисты, хотя и тебя талантом лицедея бог не обидел.
Сталин покхекал: эта баба не только дьявольски красива, но и чертовски умна. Конечно, могла бы и попридержать свой острый язычок, но почему-то ее шпильки, хотя и смущают иногда Сталина и ставят в тупик, вместе с тем и доставляют удовольствие: так тонко и без особой нужды ему еще никто льстить не решался. Вернее: никто не умеет. Даже у покойного Паукера лесть была слишком откровенной и почти похабной. И вся остальная лесть, которая проливается на него со всех сторон мутным потоком, уже не доставляет ни наслаждения, ни удовлетворения, становясь как бы непременным условием его власти над людьми и обстоятельствами. А в лести Киры есть что-то возвышающее, делающее тебя более сильным и уверенным. Даже значительно моложе своих лет. Впрочем, это может исходить и от его собственного о ней представления, от той неожиданной страсти, которую эта женщина в нем пробудила.
Трудно поверить, что он, Сталин, как мужчина, доставляет ей плотское наслаждение — не настолько он наивен. Но Кира так мастерски это наслаждение изображает, что и сам начинаешь верить в его реальность. Как там у Пушкина? «Меня обманывать… э-э… не трудно, я сам обманываться рад…» — что-то в этом роде. Все мы иногда способны и готовы обманываться. Даже гении. Но беспросветно глуп тот, кто, обманываясь в любви, готов обманываться и в политике. Так что пусть женщина играет. Ее дерзость бодрит и возбуждает не менее ее красоты. Лишь бы все это не выходило за пределы этой спальни.
Кира не слышит внутренних монологов своего любовника, зато она хорошо чувствует этого человека и понимает, что он должен испытывать и по отношению к ее телу, и к ней самой как к личности, и делает все, чтобы не унизить его мужское достоинство и достоинство вождя. До сих пор в своей игре она не переступала ту невидимую грань, которую установило их несопоставимое в высшем московском обществе положение. Труднее удержаться на этой грани за пределами дачи и кремлевских стен, где каждый знает о каждом все, если не больше, а о ней ходят такие сплетни, что уши вянут, и все ждут от нее чего-то безумного, в каждом взгляде она видит это ожидание, питаемое болезненным любопытством и завистью, каждый хочет использовать ее в своих целях, не брезгуя ничем. И трудно удержаться, чтобы не дать понять, что ты покоряешь это общество не только своей красотой и умом, но и той близостью к Вождю, к Хозяину, которая недоступна другим. Никто не поверит, что она не собирается использовать эту близость в каких-то далеко идущих целях, каждый ищет эти ее цели и строит свои догадки. А она просто живет. Живет на всю катушку, на всю свою женскую красоту и молодость. Осталось-то совсем немного — лет пять, от силы — десять.