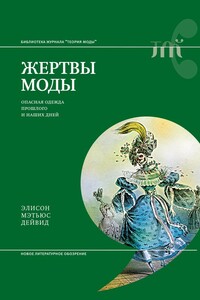Зеленый | страница 111
Наглядный пример такой позиции – дизайн, идейный наследник Баухауса и теорий Йоганнеса Иттена с его эпигонами. Много ли места в дизайне уделяется зеленому? Ничтожно мало или вообще нисколько. Сегодня, благодаря движению в защиту окружающей среды, зеленый все же проник в промышленный дизайн, но до этого дизайнеры и специалисты по рекламе долгие десятилетия почти не использовали в своей работе этот цвет. Почему? Потому что он не первичный? Кто и когда освободит науку, искусство и промышленность от этой порочной системы классификации цветов? Несколько тысячелетий ученые и художники Европы прожили, не зная о разделении цветов на первичные и дополняющие, и хуже им от этого не стало!
Если уж говорить о дизайне, следует признать, что он вообще не проявлял особой изобретательности во всем, что касалось цвета, подстраивался под любые научные теории и обходился достаточно примитивной символикой. Стараясь найти точные соответствия между цветом изделий и их функцией, дизайнеры уверовали в существование какой-то универсальной хроматической истины, словно на свете и правда есть чистые и смешанные, теплые и холодные, близкие и далекие, динамичные и статичные цвета. Забыв о том, что физиология и символика цвета тесно связаны с культурным контекстом, дизайн вознамерился создать некие «универсальные цветовые коды». Такие претензии сегодня могут лишь вызвать улыбку. К тому же товары, оформленные в соответствии с этими кодами, часто отпугивали покупателей, которые, по замыслу дизайнеров, должны были получить от покупки не только практическую пользу, но и эстетическое удовольствие.
В 1922 году Йоганнес Иттен сказал своим ученикам знаменитую фразу, которую дизайн на долгие десятилетия сделал своим лозунгом и которая для историка остается одним из самых спорных суждений, когда-либо высказанных о цвете: «Законы цвета вечны, абсолютны, не зависят от эпохи и сегодня действуют так же, как в незапамятные времена!»[233] Такое заявление разом упраздняет всякий культурный релятивизм, а заодно и всю совокупность гуманитарных наук.
Скромное место, которое занимает зеленый цвет в повседневной жизни конца XIX – начала XX века, отчасти обусловлено влиянием упрощенческих теорий в науке, промышленности и искусстве. А еще – давними предрассудками: зеленый не отличается прочностью, он блекнет на свету, улетучивается, темнеет, желтеет; зеленый – опасный, едкий, токсичный, вызывает болезни, в том числе смертельные; и в довершение всего, зеленый приносит несчастье, это цвет ведьм, цвет Дьявола и всех сил зла. В этих предрассудках, распространенных по всей Европе, реальные факты из практики художников и красильщиков перемешиваются с неискоренимыми суевериями, возникшими еще в незапамятной древности. Но есть и еще одна причина, не имеющая отношения ни к химии, ни к символике: она связана с этикой. Зеленый не является серьезным, солидным, высокоморальным цветом; зеленый – легкомысленный цвет, и от него лучше воздержаться. Такая точка зрения – наследие Реформации, некогда разделившей цвета на две группы: «пристойные» и «непристойные». Зеленый оказался среди последних.