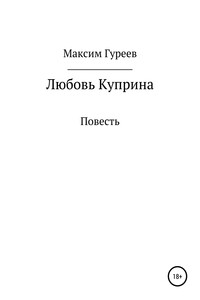Тайнозритель | страница 71
— Не знаю я никакую Женечку, понял?
Как это было мучительно переносить, лучше бы его они всей своей кучей-сворой били, но не унижали смехом, молчанием ли, перенося срам слов и жестов в выразительность бесстыжих взглядов — от первого ко второму, от второго к третьему, а там и до указующего перста недалеко, или, как говорил дедушка Женечки: „Недалече… Да, недалече тут до лесопункта, верст пять будет“.
„Благое молчание“. Благое молчание?
Серега почесал ухо.
— Ну, чео-о уставился? — И улыбнулся: — Забоялся, штоль? Не боись, пацан. — И засвистел, и зашатался высохшим стеблем на пронзительном ветру».
Вообще-то в этих краях постоянно дуют ветры: летом — раскачивая сосны и поднимая песок, зимой — путаясь в снегу, блуждая в снегу, создавая заносы, сугробы, ледники, горы до небес.
И вдруг стало известно, ну, буквально всем стало известно, даже за пределами интерната, даже в мастерских и на кирпичном заводе, что Серега напал на дежурного, выносившего из столовки чан с помоями, на ушастого придурка Вобликова. Это наверняка была истерика, припадок в том смысле, что внезапно произошел, ведь раньше за ним такого не замечали, хотя выпивал, конечно, истерика морозного утра и сухих мглистых сумерек вечера, потому как не было сил больше терпеть эти скандалы, эти звуки — капель из крана, шепота, этого плача и нищеты, этих праздников и похорон, этого ада кромешного, в который попал, сам того не желая, этого сарая без крыши, этого нефтяного ежедневного чая, этих пьяных голосов за стеной, этого старушечьего воя…
Ведь они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, — сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы. Икота замучила.
6. Лида
Кажется, прекратились судороги.
Сумерки эмалевые, выцветшие миниатюры в летописи — заглавные буквицы, увитые виноградом и змеями, сухая кора и летний кинотеатр в поселке.
Женя проснулся, встал и почувствовал себя прозрачным, промытым совершенно, только что покинувшим серебряную купель и необычайно легким.
Женя воображал, что раскачивается на качелях с удовольствием, смотрит по сторонам, недоумевает: почему же эта буквица «П», увитая проволокой и плющом, столь напоминает лобное место? Голгофу? Например, каждое Божье утро просыпается, и каждое Божье утро — напоминание о Казни!
«Казань, Уфа, Ораниенбаум, Рай-Семеновское, Остафьево — „оставь его“, Пюхтицы, Иыхве — язык можно сломать во рту».
Во рту, а полный рот-то, набитый тополиной ватой, сахарной ватой. Из переполненного рта можно и кадить нагретым духом, песком, ветром, можно и просто дуть окрест, оставляя на стекле матовые пятна.