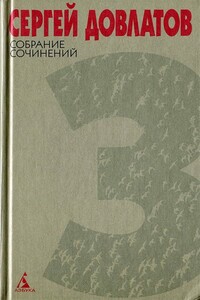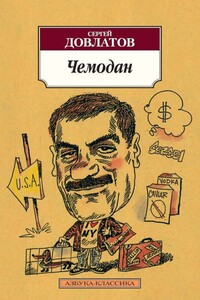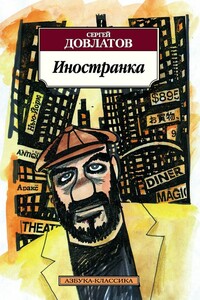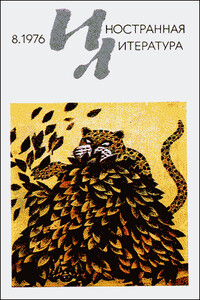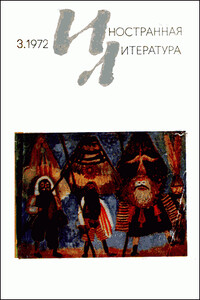Собрание сочинений в 4 томах. Том 1 | страница 11
Приведу, кстати, одно из западных сравнений Довлатова с Достоевским, необычайно, по-моему, выразительное и внутренне основательное: «Характеры у Довлатова горят так же ярко, как у Достоевского, но в гораздо более легкомысленном аду» (Адам Гуссов об американском издании «Компромисса»).
Об увлечении Довлатова американской прозой, Шервудом Андерсоном, Хемингуэем, Фолкнером, Сэлинджером можно говорить долго. Оно очевидно — особенно для тех, кто читал его прозу в шестидесятые — семидесятые годы, когда он жил и по мелочам публиковался в Ленинграде, Таллинне и снова в Ленинграде. Вершиной успеха была публикация в «Юности» рассказа — с фотографией автора. На экземпляре журнала Сережа сделал мне в связи с этим торжеством соответствующую дарственную надпись: «Портрет хорош, годится для кино. Но текст — беспрецедентное говно!»
Нужно знать, что все эти публикации, равно как рукописные и машинописные копии довлатовских произведений той поры, бродившие по рукам и оставшиеся на родине, сейчас к печати непригодны. Публиковать что бы то ни было из этих не переработанных позже текстов их автор категорически запретил. Упомянул об этом запрете даже в завещании.
Ясно, что не сам по себе «американизм» ранних вещей смущал Довлатова в зрелые годы. Смущало то, что он — вопреки всякой логике — способствовал превращению автора в среднестатистического литературного профессионала. Но общий дух той же самой литературы и уводил от этого превращения. И я вынес в заголовок этого очерка о Сереже — едва ли не из ностальгических побуждений — название одной из наших некогда любимых американских книг — «Историю рассказчика» Шервуда Андерсона. Думаю, что в подтексте довлатовского утверждения себя на позициях рассказчика лежит и отсылка к этой освященной для него преданием вещи.
Следы американских веяний сохранились и в поздних произведениях Довлатова, например в «Филиале». Эта последняя из написанных им повестей завершается пассажем столь же эффектным, сколь и знакомым: «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь». Всякий, читавший Хемингуэя, сразу — и не без оснований — вспомнит финал романа «Прощай, оружие!»: «Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем».
Впрочем, этот брутально-лирический росчерк услаждал вместе с Довлатовым юность целого литературного поколения. Будораживший наше воображение Марек Хласко, в двадцать четыре года оказавшийся изгнанником и умерший в тридцать пять в Висбадене, так и не увидев своей Польши, завершает один из рассказов — «Обращенный в Яффе» — точь-в-точь тем же факсимиле: «И я под дождем вернулся в гостиницу».