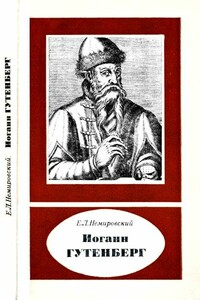Андрей Чохов | страница 19
Далеко не о всех орудиях мы можем сказать, кто их делал. Не исключено, что «пушки Якобовые» можно связать с именем старейшего московского пушечного мастера Якова, работавшего в конце XV в. Орудия его по сей день хранятся в наших музеях.
Мортира «Павлин», как мы уже говорили, отлита в 1555 г. Степаном Петровым. Небольшая разница в «весовом калибре» (ранее шла речь о ядре весом не 13, но 15 пудов) не должна смущать нас, ибо данные описей и разрядных книг не всегда были точными.
В Ливонском походе 1577 г. участвовало по крайней мере четыре орудия Андрея Чохова — «Инрог», «Волк», «Собака» и «Лисица». Вполне возможно, что некоторые из упомянутых разрядной книгой пищалей и мортир отлиты знаменитым мастером, хотя сказать об этом с определенностью мы не можем.
Среди мортир, участвовавших в Ливонском походе, выделялись своими размерами «Павлин» Степана Петрова, а также «верховые пушки» «Кольчатая» (ядро весом 7 пудов —112 кг), «Ушатая» (96 кг), «Кольчатая старая» (96 кг)[57].
Артиллерия способствовала успеху похода. Был захвачен Венден — в прошлом резиденция магистра Ливонского ордена, русским войскам сдались Влех, Лужа, Резекне, Даугавпилс.
В дальнейшем несколько крупных орудий и среди них чоховский «Волк» отделили от «большого государева наряда» и придали отряду, оставшемуся в Ливонии. 21 октября 1578 г. они приняли участие в кровопролитном сражении под Венденом (Цесисом) — в прошлом резиденцией магистра Ливонского ордена. Обстрел крепости продолжался пять дней. Павел Одерборн, описывая осаду Вендена, отмечал: «Московиты имеют пушку огромной величины и силы, называемую „Волком". Она установлена впереди их лагеря и выбрасывает дротики (ядра? — Е. Н.) шестифутовой толщины (?)»[58].
В анонимной брошюре, посвященной осаде Вендена, которая была издана в Нюрнберге в 1579 г., рассказывается, что «русский царь до такой крайности довел этот город своими огромными пушками, что разрушил и сравнял с землею каменную стену, начиная от Массавской башни до бастиона, и если бы не приспела помощь, то (по словам пленных и граждан, как сознавались они в этом после…) городу никак бы не уцелеть»[59].
На выручку осажденным ливонцам подошло большое соединенное польско-шведское войско. Судьба не благоприятствовала русской армии — татарская конница переметнулась на сторону врага, несколько воевод бежало с поля боя. «А иные воеводы, — повествует разрядная книга 1578–1579 гг., — тогда с дела побежали, а товарищев своих бояр и воевод выдали, и наряд покинули; а побежали боярин князь Иван Голицын, да окольничей Федор Шереметев, да князь Андрей Палецкой, да дьяк Андрей Щелкалов»