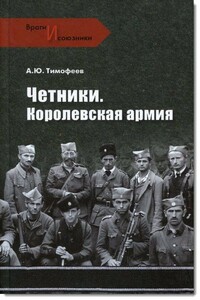В следующем номере этого официального издания РПЦ(з) та же мысль получила дальнейшее развитие. «…Русская Зарубежная Церковь с напряженным вниманием следит за ходом войны на Востоке, молитвенно поддерживая самоотверженных бойцовъ против безбожников, и всегда готовая по мере своих сил и возможности помогать этой борьбе, которая, кроме внешнего боевого фронта, в том или ином виде ведется по всему миру…»
[244]В последующих рождественских и пасхальных посланиях митрополита Анастасия присутствовали слова поддержки «…крестоносному воину, подвизающемуся на поле брани…», который «…творит великое дело любви и самоотвержения…полагает свою душу за такие ценности, которые выше и дороже самой жизни, ибо имеют непреходящее, вечное значение»
[245]. Лишь с пасхального послания 1943 г. риторика несколько изменилась, и хотя перечисление большевистских грехов осталось, слова поддержки «борцам с большевизмом» стали иссякать, а на смену им пришли полные боли и печали перечисления «…жертв и страданий. Нет страны, откуда не слышались бы стоны и вздохи, где люди не просыпались бы в тревоге, не зная, что ожидает их в нынешний день. На полях сражения смерть косит, как траву, тысячи юных жизней, лучшую надежду и утешение каждого народа. Нарастающая каждый день вражда и злоба доходят до сатанинского ожесточения, доводящего до крайних пределов и без того едва переносимые тяготы войны. Летающие воздушные чудовища дышат на все разрушением и смертью, не щадя ни мирных беззащитных городов, ни священных алтарей, ни больниц, ни жизни невинных младенцев, кровь которых поистине вопиет на небо»
[246].
Причина такой разительной перемены заключалась в том, что с ходом войны в России иерархам РПЦ(з) становилось все яснее, «… что немцы никак не хотят оказывать нам поддержку в работе в России… больше всего они добивались разделения…»[247]. Нацисты старались предотвратить не только контакты между РПЦ(з) и оккупированными советскими территориями, но и между советскими военнопленными и священниками РПЦ(з). Вследствие этого старания РПЦ(з) помочь восстановлению нормальной церковной жизни в России пошли окольными путями. Православное миссионерское издательское дело активно развивалось не вблизи Синода, а в братстве преп. Иова в Ладомирово (Словакия), имевшем свою типографию. Это подозрительное отношение немецких властей к РПЦ(з) исходило от политической верхушки Третьего рейха[248]и приводило к попыткам сохранить за РПЦ(з) исключительно статус «эмигрантской церкви». Несмотря на давление немцев, РПЦ(з) пыталась участвовать в оказании поддержки православному возрождению в России. Летом 1942 г. «…в Белграде с благословения митрополита Анастасия был образован комитет для сбора средств на покупку и заготовку священных сосудов, церковных облачений, икон, крестиков и богослужебных книг для русских церквей в освобожденных местностях»