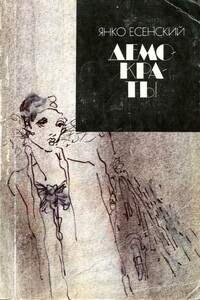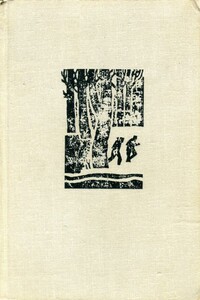Темные закрытые комнаты | страница 25
Не отвечая, я снова взял в руки книгу. Тогда тхакураин подошла еще ближе и сказала:
— Смотри же, лала, не подумай плохо про мои слова! А? Чем хочешь могу поклясться — я только ради смеха…
— Ладно, бхабхи, не будем больше об этом, — так же сухо ответил я. — Теперь мне хочется почитать.
— Ага, ага, правда! Посиди, почитай, а я уж пойду себе, — говорила тхакураин, отступая к порогу. — Ведь твоя бхабхи не такая грамотная, как ты. Если когда и скажет глупость, так не прогневайся. Чего ради поминать тебя рядом с какой-то уличной девкой, которая на весь дом себя опозорила! Бит возьму сейчас и отрежу себе язык чтобы в другой раз не болтал лишнего. Ты уж, пожалуй ста, не сердись, не обижайся на мои глупые речи… А может, лала, чай тебе приготовить, а?
Я покачал головой в знак отказа, и тхакураин ушла. Книжные строчки извивались и путались в моих глазах а я снова и снова вспоминал язвительные слова Хуршид снова и снова видел перед собой ее горящие глаза.
И вот, очень скоро, настал тот ненавистный день, когда карман мой опустел окончательно. В последний раз, с последними шестью анами[20] в кармане, я отправился к редактору «Иравати», чтобы спросить его напрямик — берет он меня или нет? Еще накануне вечером я твердо решил, что в случае отказа тут же продаю часы и с вырученными за них тридцатью-сорока рупиями уезжаю в родную деревню. Но — о, чудо! — в тот день многоуважаемый господин редактор оказался в особо приятном расположении духа и без дальнейших отлагательств велел мне с первого числа следующего месяца выходить на работу, отчего сразу стало ясно, что та отчаянная минута когда люди снимают с запястья часы, последнее свое до стояние, для меня, слава богу, еще не настала.
Само собой, по возвращении из редакции «Иравати» на душе у меня было не в пример веселей, чем во все предыдущие дни, и впервые мне до страсти захотелось посидеть с кем-нибудь за дружеской беседой, вволю посмеяться и пошутить. Когда я вошел в дом, тхакураин разжигала очаг, чтобы испечь к ужину лепешки. Край ее замасленного дхоти соскользнул с плеча, волосы растрепались, а в глазах стояли слезы — результат усердного раздувания очага. Завидев меня, она спросила, помаргивая красными веками:
— Ну что, лала, прикажешь чай приготовить?
— Ты угадала, бхабхи, — ответил я решительно, — ужасно хочется чаю, и самого что ни на есть горячего. А если к нему еще и что-нибудь солененькое найдется, совсем хорошо!
Отодвинувшись от очага, тхакураин ладонью вытерла слезы на глазах и изумленно уставилась на меня, — мой, как это может статься, что человек, который еще утром с кислым видом, будто отбывая постыдную повинность, пережевывал свою непременную лепешку, вдруг так весело приказывает подать ему чай с солеными закусками? Подойдя ближе, она остановилась передо мной с широко раскрытыми глазами — совсем как маленькая девочка, с жадным любопытством разглядывающая незнакомый ей предмет.