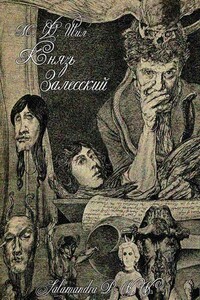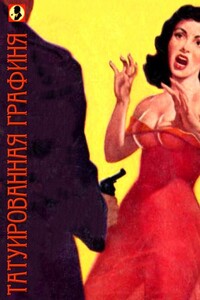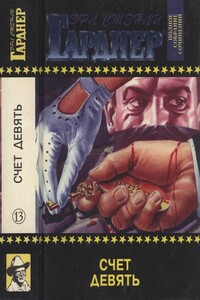Виноватые и правые | страница 56
Когда я вышел, робкая толпа отодвинулась, но не разбежалась, заметив, что я сел на ступеньку. Бойчее других оказалась девочка лет 6. Она выдвинулась поближе ко мне и стала внимательно меня рассматривать.
— Подойди ко мне, девушка. Чья ты?
— А не подойду.
— А я тебе чего-то дал бы.
— А чего бы ты мне дал?
— Сладкого, сахару.
— А что сахар?
— Сладкое, я говорю.
— Ну, а покажи.
Я показал. Девочка подумала.
— Нет, не пойду, — все-таки сказала она.
— Отчего же?
— А как ты лешак?..
— Да с чего же ты взяла, что я лешак?
— А ишь на тебе какая лопотина-то некрещеная.
— Нет, я человек крещеный.
— А ну-ка перекрестись.
Я перекрестился. Девочка подошла ко мне нерешительно. Я подал ей сахар, но она все-таки не взяла.
— Ты сперва сам поешь, — сказала она.
Я откусил. Девочка опять подумала.
— Да… А как ты лешак, так тебе-то ничего, а мне как бы лягуш не народить.
— Каких лягуш?
— А вон лонись Машку лешак-от уносил; да как она у него напилась, так после много, много лягуш народила.
— Правду ли ты говоришь? Не врешь ли?
— Ишь ты — врать! Нет брат, кто врет, так того на том свете за язык повесят. Попробуй-ко, поври ты, так узнаешь.
— А где тот-то свет?
— Не знаю… там! — Тут она махнула наудачу ручонкой.
— Ну, так возьми же, отведай.
— А перекрестися ты три раза.
Я перекрестился. Девочка взяла кусок, перекрестилась и стала нерешительно его грызть.
— Про какую Машку ты говоришь?
— Про какую?.. Про Чешихину. Право так! Хоть кого спроси. Нет, брат, уж я-то не совру.
Между тем маленькая дикарка вошла во вкус: сахар ей, видимо, понравился. Сначала она стала посмеиваться, потом оборотилась к своим, показывая им кусок, и побежала, а за ней бросилась вся толпа. Я остался один, озадаченный сообщенным мне правдивой девочкой сведением о рождении Машкой Чешихиной лягушек.
Но вот показался священник, а за ним посланный наш с самоваром и какая-то женщина с чайными чашками и чайником на подносе. Я отрекомендовался священнику и мы вместе с ним вошли в дом. Там мои спутники также познакомились с ним. Это был человек почтенной наружности, уже далеко не молодой и, как после оказалось, словоохотливый. Правда, тридцатилетнее, почти безвыходное, житье в такой пустыне, каков Монастырек, наложило на него печать некоторой дикости, но из всех речей его видно было, что это человек с сердцем, способным откликаться на все то, что требует ответа от сердца.
Доктор и становой продолжали заниматься принятыми на себя обязанностями: один неслужебными, а другой — служебными. Я остался для беседования с почтенным священником.