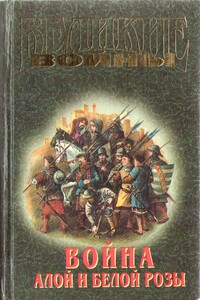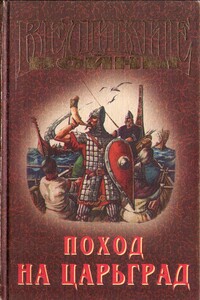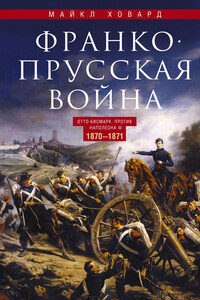Ливонская война | страница 98
Вспомнился ему Курбский. Прибыв в Дерпт, князь Андрей рассказывал ему:
— Вся Русь на царя молится! Весь чёрный люд на него как на радельца своего глядит. На заступника! От нас, бояр! Говорил он с ними однажды в Москве, на торгу, с Лобного места… Двенадцать уж лет прошло, а помнят! Мальцам вместо сказок рассказывают, как выходил к ним царь-батюшка на говурю! По всем весям шепчутся… Часа ждут, когда он силы наберёт и их от бояр оборонит!
Дивно было Курбскому. Впервые он ехал по Руси через ямы[46] и впервые услышал это… Он же, Челяднин, за десять лет беспрестанных переездов понаслышался такого, что завязывай глаза и беги на край света! Рассказал бы он боярам, что каждый мужик на Руси на них нож наточил, — так не поверят, смеяться учнут. Неколебима в них вера в смиренность русского мужика. Видят они его преклонённого, с покорной головой и не ведают, что он злобу свою от них прячет, а не почтение блюдёт.
«Э-хе-хе, боярушки, — уныло думает Челяднин. — Вам бы бороды остричь — полегче б головами стало вертеть… Повертелись бы вы, поозирались, буде, и узрели бы, какое на вас надвигается?! Держали вы Русь под собой, как лёд реку, а половодье-то всякий лёд крушит! Мужик, буде, и не напустит на вас ножа, ежели царь не натравит, а уж поместные[47] праздник свой справят за вашим столом. Ибо где им взять свою долю, как не у вас вырвать? И он отдаст им вашу долю! И они станут ему служить за неё так, как никогда не служили вам ваши холопы!»
Выболелся он уже весь от этих мыслей: не в первый раз приходят они к нему. И ничего на душе, кроме уныния. Посмеётся лишь над собой, что и сам ведь — боярин, такой же, как все, и, не выдвори его царь из Москвы, не потаскайся он по Руси, не посмотри, не послушай, ничего бы он этого не знал, и не было бы в нём этих мыслей… Может, и лучше было бы?!
…Улочка, по которой с трудом протискивались сани Челяднина, наконец выбилась к площади. Площадь была грязная, изнавоженная, истыканная коновязями, возле коновязей кучи соломы, чёрные вытаины от костров… Поодаль, на взгорке, — купольная часовенка, возле неё чёрными рядами, как гробы, — пушки. Пушек много: впереди, в двух рядах, — большие стенобитные да шесть рядов малых. Среди больших стенобитных знаменитые ещё по Казанскому походу — «Медведь», «Единорог» и «Орел». При осаде Казани эти три пушки за один день боя снесли до основания сто саженей городской стены. Тут же и огромная «Кашпирова пушка», способная стрелять ядрами в двадцать пудов весом. Отлил её лет десять назад на московском Пушечном дворе взятый на службу Иваном немецкий мастер Кашпир Ганусов. Рядом с «Кашпировой пушкой» другая, немного поменьше — «Павлин». Её отлил вслед за Кашпиром Ганусовым русский мастер Степан Петров. У «Павлина» ядра — в пятнадцать пудов.