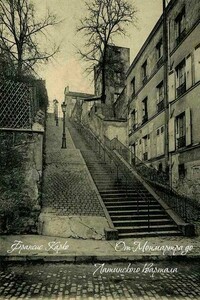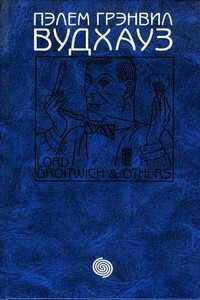Всего лишь женщина. Человек, которого выслеживают | страница 86
— Ну как дела? — спросил Фуасс.
Лампьё пожал руку, протянутую через прилавок, и потянулся за своим стаканом.
— Погодите, выпьем вместе, — остановил его Фуасс.
Они чокнулись.
В смешанном свете улицы неясные силуэты прохожих, сновавших по всем направлениям, отражались в окнах кабачка. В полосах света, пронизывавших серый туман, видны были струи дождя. Влажный пар затуманил единственное зеркало в коричневой раме, висевшее на стене. Временами, когда кто-нибудь открывал дверь, струя холодного воздуха охватывала ноги, и в то же время неясный гул, доносившийся с улицы, становился отчетливее.
— Двери! Двери! — раздалось два-три голоса, когда «всеобщая мать» задержала на пороге выходившего посетителя.
— Эй, вы там!.. Закроете вы, наконец, двери?! — вмешался Фуасс.
И когда она немедленно подчинилась, он проговорил:
— Хотел бы я видеть, как это меня заставили бы здесь, у себя, дважды повторить одно и то же приказание!
— Хорошо сказано! — воскликнул Лампьё.
Вчера еще ему было бы совершенно безразлично, что «всеобщая мать» беспрекословно послушалась хозяина погребка, это не задержало бы его внимания. Но теперь Лампьё интересовался всем, что вокруг него происходило, во всем принимал участие.
— Итак, — сказал он, — все идет своим порядком…
— Как и следует быть, — заключил Фуасс.
Лампьё засмеялся. «Как и следует быть», — повторил он с удовольствием. У «всеобщей матери» не было никаких оснований нарушать заведенный порядок. Это было бы недопустимо… «Порядок прежде всего», — думал Лампьё. Под этим он подразумевал, что слабый должен подчиняться сильному, диктующему свою волю. Без этого все потеряло бы смысл. Что, например, стал бы он делать, если бы Леонтина вздумала ему сопротивляться? К счастью, она не сопротивлялась, с ней легко было справиться. Она стушевывалась. И теперь она сидела там, такая маленькая и незаметная, перед своим стаканом, к которому не притрагивалась… Лампьё был ей за это благодарен: в конце концов, эта девушка не причинит ему хлопот. Ее мысли, подозрения, болезненное беспокойство, которое можно было прочесть в ее глазах, — все это не имело значения. В один прекрасный день все это рассеется и исчезнет. Лампьё в этом не сомневался. К тому же на тот случай, если Леонтина попытается пойти дальше в своих догадках, Лампьё твердо решил положить этому предел. И для нее, и для него было бы лучше отвлечься от мыслей, порождаемых нездоровым любопытством, во власти которого, как это чувствовал Лампьё, находилась Леонтина. Судя по собственному опыту, он знал, что такого рода любопытство приводит только к ненужным осложнениям и выбивает из колеи. Тогда уж не жди добра. У Лампьё сохранилось об этом жуткое воспоминание.