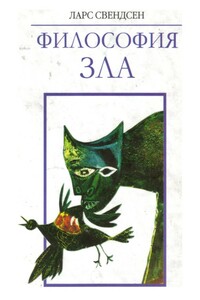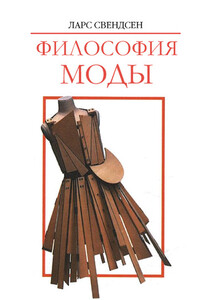Философия философии | страница 47
Стэнли Кэвел – один из самых «континентальных» философов в англо-американской традиции – пишет в книге «Глас рассудка» (The Claim of Reason, 1979), что философия для него ряд текстов, а не ряд проблем. Мы, философы, проводим большую часть рабочего времени за чтением, толкованием и комментированием текстов, написанных нашими современниками или предшественниками. Это факт, причем верный для обеих традиций, но в ранней аналитической философии эта тенденция была менее выраженной, поскольку было принято прилагать усилия к выяснению того, был ли философ Х прав, не слишком вдаваясь в то, что, собственно, он имел в виду. Но тексты Куайна и Дэвидсона требуют экзегезы (толкования) – точно так же, как тексты Хайдеггера и Дерриды.
Комментарий постепенно стал самым распространенным жанром и в аналитической философии, так что можно обсуждать, натурализм Куайна, а не натурализм вообще. Если рассматривать историю философии как единое целое, такой подход является скорее правилом, нежели исключением. Крантор, комментатор Платона, написал в 300 году до н. э. комментарий к «Тимею», и уже в 100 году до н. э. такая форма философского исследования получила широкое распространение. Начиная с этого момента философы говорили не о самих по себе проблемах, а скорее о том, что философы прошлого – прежде всего Платон и Аристотель – писали об этих проблемах. В средневековой схоластике эта форма исследования стала практически единственной. Философское образование в общем и целом сводилось к разъяснению философии Аристотеля, и многие философы сделали карьеру, занимаясь исключительно комментированием его трудов. Эта тенденция сохранялась вплоть до возникновения новейшей философии во времена Декарта. Для философов той эпохи было важнее подчеркнуть свой разрыв с прошлым, нежели поддерживать с ним постоянный диалог. Аналитическая философия – это именно та традиция, в которой разрыв с прошлым проявился сильнее всего, но, как я уже говорил, и здесь в последнее время возрождается жанр комментария. Таким образом, и здесь мы не найдем надежного критерия для разграничения традиций.
Противостояние континентальной и аналитической философий невозможно свести к какому-то одному пункту. Можно попытаться разграничить их, описывая аналитическую философию как «сциентистскую», а континентальную как «гуманистическую». Вплоть до Возрождения не существовало различия между гуманитарным и научным взглядом на мир и человека, но затем оно наметилось, и противостояние континентальной и аналитической философий можно трактовать как проявление этого разделения. Разумеется, и в континентальной философии можно обнаружить претензии на научный подход: и Гуссерль, и Хайдеггер подчеркивали необходимость обеспечить «научность» философского исследования. Тем не менее большинство философов смотрели на науку скорее как на одну из проблем философии, нежели как на образец, которому следует подражать при решении проблем. Многие континентальные философы, особенно после Второй мировой войны, считают науку потенциально опасной идеологией. Свойственная науке рациональность считалась одной из предпосылок к геноциду и массовому истреблению. Впрочем, некоторые представители континентальной традиции пишут о естественных науках и логике безо всякой враждебности, точно так же, как некоторые аналитические философы пишут об истории, искусстве и смысле жизни. Можно говорить об основных тематических предпочтениях той или иной традиции, но нет никаких оснований для проведения строгого разграничения в этой области. Если изучить, какие идеи господствуют в обеих традициях сегодня, то можно обнаружить довольно большое сходство. Скажем, «языковой поворот» имел место в обеих традициях. Ведущие представители и аналитической, и континентальной философии, такие как Куайн и Деррида, отрицали эпистемологический фундаментализм.