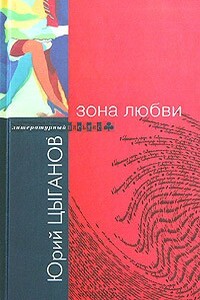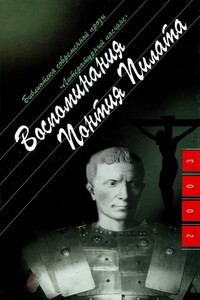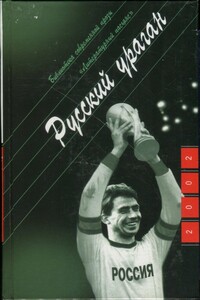Раннее утро. Его звали Бой | страница 7
— Здравствуй, Нина.
— Здравствуй, Жан.
Стояло лето. На мне был матросский костюмчик, который считали легким, наверное, потому, что матросам в океане всегда свежо. Но я задыхалась, обернутая в тик с манишкой, галстуком-бантом, рукавами по локоть и двойным рядом пуговиц. К тому же ради траура по матери на меня надели серые носки до колен и матово-черные башмаки. А передо мной стоял этот солнечный мальчик, голый по пояс, босоногий, одетый, кажется, только в свои кудри и свисток. Его кожа, от головы до пят, была золотисто-карамельного цвета. Это был мой двоюродный брат. Жан Бранлонг. Я представить себе не могла, что может быть на свете более пленительное имя.
— Ты грустишь?
Вопрос продолжился в свисте. В этом протяжном и я почувствовала побуждение. Жан позволял мне поплакать. И я легко заплакала, не вытирая глаз, наслаждаясь вспыхнувшим, посверкивающим образом кузена сквозь пелену слез. А он так же легко подошел ко мне. Свисток впился мне в щеку, когда он прижал меня к себе.
— Хочешь, я тебя полью?
Я не успела ответить «да» или «нет». Он уже стаскивал с меня костюмчик, носки, башмаки. Оставил только трусики в виде лодочки, пристегнутые тремя пуговицами к перкалевой рубашке. Потом схватил поливочный шланг и удерживал меня рукой, пока шел мелкий дождик, ливень и проливной дождь. Потом отошел на два шага и направил в меня струю, прищурив глаза, словно охотник, оценивая свою работу, а я вопила, смеялась, задыхалась, хватала ртом воздух, снова смеялась. Под благодатной водой таяли картины, предшествовавшие моему приезду в Нару: мать, снедаемая болезнью, ее губы белее подушки, ритуальный вопрос: «Ты хорошо себя вела?», — и рука, оставлявшая на моей щеке, щеке ребенка, запертого в душном доме, в городе, изнывавшем от летней жары, след как от ожога. Все началось с того душа в Наре. Любовь, голод, от которого дрожало все мое хрупкое тело, вожделение, от которого вдруг, меж взрывов смеха, у меня сжимало сердце и нечем становилось дышать, любовь, любовь, я хочу любить, я люблю тебя, Жан. А он, не переставая насвистывать, мягко обтер меня серыми носками и выжал руками мои мокрые волосы.
— Есть хочешь?
Нет, я не хотела есть, но как ему в этом признаться?
— Немного.
Он исчез. Три минуты я дрожала, стуча зубами, но не от холода (жар липкими волнами накатывал на меня), а от одиночества. Я вдруг почувствовала себя в своих мокрых трусиках одинокой, голой, обездоленной, чудесный мир, который мне только что подарили, крошился и осыпался, словно пейзаж, съедаемый сумерками. А потом Жан вернулся, сомкнув руки кольцом вкруг своей добычи. Он разложил на траве между нами свиные шкварки, остатки омлета, крынку кислого молока. А я созерцала это чудо: солнечный мальчик, стоящий на коленях в траве, воссоздающий пейзаж, жизнь, расставляющий передо мной щербатые тарелки. Во мне пробудился второй голод, такой же неистовый, как и первый: словно собака, не евшая несколько дней, я хрустела шкварками, пила молоко прямо из крынки, подхватывала куски омлета, которые Жан спокойно подцеплял с тарелки и протягивал мне на кончике перочинного ножа.