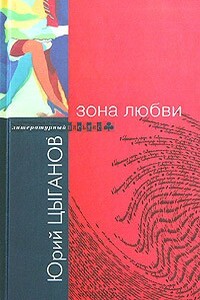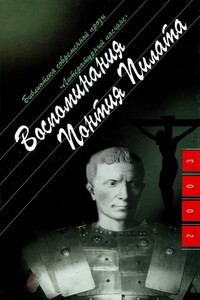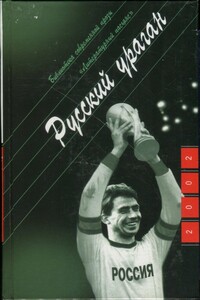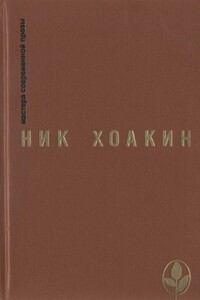Раннее утро. Его звали Бой | страница 4
Раз уж я проснулась, то встану, выйду из дому и возьму яйцо в курятнике, вымою голову с яичным желтком, волосы будут мягкими, блестящими, как бока моих лошадей. Я слушаю ночь. Она застыла от тишины, словно от мороза, я натягиваю фуфайку поверх пижамы. Макинтош, сапоги. Поворачиваю щеколду на двери. Сердце бьется, но ничего. Вот я в коридоре второго этажа, который перекосило вправо (похоже, оттого, что дом осел: он был выстроен еще при моей прапрабабушке, Бастиане Сойола, — даме, падкой до пастухов. Папа говорит, что я наверняка праправнучка какого-нибудь пастуха, ну и что?). Я старательно ступаю по красной циновке, постеленной посреди коридора, избегая чересчур вощеного пола, немецких сапог, башмаков моих тети и бабушки, которые Мелани соберет около семи, прежде чем молоть кофе. Задерживаю дыхание перед комнатой папы, полковника-оккупанта и его лейтенанта. Снится ли наезднику Свара? Я спускаюсь по лестнице, описывающей полукруг, перила под рукой — словно другая рука, от них пахнет можжевеловым воском: округлый и теплый запах. (Все же я предпочитаю запах магнолий. В саду Нары три магнолии. Когда приходит лето, я срезаю бутоны. Спрятанные между листьев с пушистой изнанкой, это всего лишь бледные трубочки без запаха. Но стоит запереть их на день в комнате с закрытыми ставнями, в которые лупит солнце — и к вечеру откуда ни возьмись — запах, медовый, волнующий, а ядовитые лепестки уже привяли. На следующий день на них коричневыми волнами набегает смерть, и ты склоняешься над тленным запахом и чувствуешь грусть, и всему этому меня научил Жан, да, этот дурачина Жан.) На первом этаже я снова иду по красной дорожке, минуя столовую, веранду, гостиную, кухню и каморку за ней со скрипучими дверями, так как дерево зимой разбухает, а летом рассыхается. Прохожу через прачечную. На двух столах с мраморными столешницами у Мелани в крынках киснет молоко. Если бы я прислушалась к своему внутреннему голосу, то взяла бы одну и, слегка запрокинув голову, перелила бы простоквашу себе в рот (она пахнет ванилью, я угадываю в белом молоке черную дольку), но это невозможно, ибо простокваша, заполнив все трещинки крынки, всем кому ни попадя продемонстрирует, что здесь побывал вор, остается лишь вздохнуть и подавить внезапный приступ голода, который я утолю позже, когда смогу. Приоткрываю ставни, не слишком широко, зная, под каким углом они начинают скрипеть, ставлю ногу на подоконник, затем другую и прыгаю. Ночь в Наре, Боже мой, как же я ее люблю, а ведь сейчас декабрь, воздух наполнен заледеневшим паром. Повсюду — у колодцев, у решетки, окружающей сад, — плавают ведьмины волосы. Мне не страшно и не холодно, напротив, я бросаю вызов темноте, я пылаю, мне семнадцать лет, мое тело обезумело от нетерпения. Вот отправилась красть яйца, а то ли еще будет? На меня накатывает нелепое желание позвать на помощь, они бы тогда все повыскакивали под хлопанье дверей, под звон стекол, которые, может, даже и разбились бы, под немецкую ругань: что случилось? Что случилось? Папа, бабуля, тетя Ева, Мелани, полковник, наездник, ординарцы. А почему бы нет? Они такие хитрецы — Свара, Ураган и старый Жасмин IV с тремя белыми чулками на ногах! Чем я рискую? Все домочадцы в халатах — наверное, было бы смешно: полковник с животом племенной кобылы, наездник с пистолетом, тетя Ева с четками, а я бы смеялась, я бы сказала… Нет, дурочка, ты бы ничего не сказала, тебе больше не с кем разговаривать. Яйцо. Когда умираешь от любви, а тебя еще преследует кошмар, надо помыть голову, так что поторопись. Я иду, как тот человек без лица из моего сна, сапоги увязают, оба курятника — в самой глубине сада, задом к лесу, я едва могу их разглядеть, но это неважно, я часто наведывалась туда по ночам. Я знаю, где прячут ключи — в соломе, которой прикрыт ручной насос. Куры меня знают, я помогаю их лечить. Никакого переполоха по поводу моего вторжения. Я вижу комочки на разной высоте, формы жизни в виде комочков. В луче фонаря поднимаются маленькие нахохлившиеся головки. Первое яйцо здесь, в ящике, на куче сена, перемешанного с перьями, оно еще теплое. Надо возвращаться, а я не могу, не могу. В этот час он приходил ко мне, бесцеремонно будил, тянул на себя одеяло.